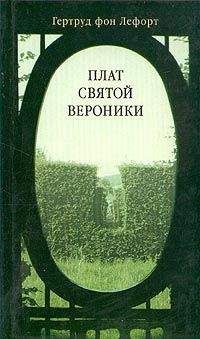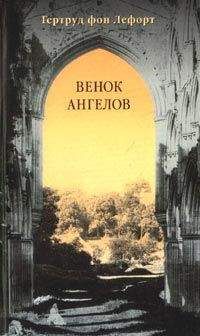Но мысль о черной, непроницаемой могиле была для меня так же тягостна, как и соседство с тетушкой. Я не испытывала прежнего страха перед ней: она теперь и в самом деле не могла внушать страх, да и я была слишком расстроена, чтобы вспоминать прежние времена. Просто я хотела остаться одна с моей памятью о бабушке и искать напоминания о ней лишь там, где она сама учила меня находить их.
Среди бабушкиной коллекции воспоминаний в виде множества мраморных обломков был один большой, с роскошным орнаментом, который ей много лет назад подарил друг-археолог. Это была крохотная часть фриза, украшавшего когда-то храм Кастора, прекрасные колонны которого она так любила. Она и к этому куску мрамора относилась с особой нежностью, хотя и не одобряла того, что его разлучили с каменными собратьями, и настойчиво просила, чтобы мы после ее смерти вернули камень на то священное место, откуда он был родом, чтобы ему не пришлось еще раз пострадать за то, что он некоторое время был ее отрадой.
И вот я отправилась с этим куском мрамора на Форум. Мысль о том, что это еще одна скромная дань любви покойной, возможность как бы протянуть ей руку, ненадолго смягчила мою боль.
Когда же я пришла на Форум, она вновь обрушилась на меня всей своей мощью. Я думала, что не переживу открывшегося мне зрелища. Благородные обломки у подножия больших красноватых руин Палатина, обычно такие величественные, словно одетые в роскошную королевскую мантию, показались мне в тот день непривычно грубыми, безликими доломитовыми обрубками, похожими на разбросанные по степи пожелтевшие мертвые кости. Прежнего волшебства как не бывало, все словно лишилось памяти, забыло о своем существовании и смысле. К тому же дул неистовый сирокко, словно сама пустыня примчалась сюда по небу, чтобы засыпать, похоронить все заживо. Весь Рим, казалось, был охвачен разгулом взбунтовавшейся пыли. На Палатине гнулись до земли кипарисы, небо распростерлось над желтой бурей свинцово-песочным покрывалом, обломки стен и колонн были словно кем-то злобно разбросаны, людей как будто сдуло ветром; я не удивилась бы, если бы маленькая изящная башня Капитолия вдруг накренилась или «три принцессы» сбросили передо мной свои белые мраморные короны, когда я скорбно возлагала свое сокровище у их подножия…
Собираясь на Форум, я думала провести там все утро, чтобы без помех совершить свои поминальные жертвы, но буря все настойчивее засыпала глаза песком, а душу наполняла ужасом. И чтобы не возвращаться домой, к тетушке Эдель, я в конце концов укрылась в церкви Санта Мария Антиква. Разрушенная базилика показалась мне такой же пустой и горько-печальной, как и мое сердце. Здесь тоже, как и на всем Форуме, почти никого не было, лишь в глубине, возле древних фресок, о чем-то оживленно беседовали несколько ученых-искусствоведов, очевидно углубившихся в какой-то научный спор. Не обращая на них внимания, я уселась неподалеку от входа на мраморный порог, почти на том самом месте, с которого я тогда видела бабушку сидящей на ступенях храма Антонина. Я вспомнила, как у меня появилось чувство, будто Энцио когда-нибудь навлечет на нее огромное несчастье. И вот все исполнилось и сбылось. Но несчастье это обрушилось на нее не только из-за Энцио – я тоже была причастна к этому. И вновь передо мной встал вопрос, огромный и загадочный: чей голос прозвучал во мне, когда я читала последнее письмо отца? Я все еще не находила утешения! Быть может, я и в самом деле, как говорила тетушка Эдельгарт, всего лишь добыча моих собственных душевных бурь? Быть может, я как песок, который носился по городу столбами пыли, гонимый ветром? Быть может, во мне уже при жизни исполняется то, чем другие становятся в смерти? В себе самой я была ничем, я чувствовала это. Быть я могла, только когда любила, – тогда я была, обретала себя, узнавала себя. Но каким неопределенным было это обретение, это узнавание! (Прощание с Энцио тоже сейчас предстало перед моей душой.) Как неопределенна любая человеческая любовь! Как странно покидает она это сердце и как странно это сердце покидает ее!..
Песок между тем долетал уже и туда, где я сидела, впрочем, может быть, мне это просто казалось, потому что я внутренне все больше и больше погружалась в этот песок. Я отошла дальше, в глубь базилики. Но песок словно преследовал меня повсюду, он слепил глаза, проникал в мысли, в душу; казалось, будто боль, стягивающая меня, словно черный обруч, – мой единственный оплот и я должна изо всех сил держаться за него, чтобы не улететь прочь и не растаять в воздухе.
Так постепенно, в поисках убежища от песчаных вихрей, я добралась до ниши с древним византийским крестом. И здесь на меня тоже нахлынули воспоминания. Я вспомнила, как в этой нише однажды спряталось мое детское горе, вспомнила свой страх перед этим крестом и вызванное им чувство, будто я плачу вовсе не о своем горе или о том, кто грозит бедой бабушке, а о чем-то, что заполнило собой весь мир. Как сильны боль и смерть! Даже Божественная любовь покорилась им – у меня вдруг появилось ощущение, что судьба моя вот-вот сделает выбор в пользу любви к этим двум дорогим для меня людям. И вновь, как и несколько месяцев назад, мне на мгновение захотелось бежать отсюда. Но здесь, в глубине помещения, я наконец была недосягаема для песка и так и осталась стоять на месте.
Тем временем ученые-искусствоведы, все еще увлеченные спором, приблизились ко мне. Я вдруг оказалась прямо среди них и помимо своей воли узнала суть их разногласий: они говорили о консервации древних фресок. Один утверждал, что это изображение креста стало гораздо бледнее с тех пор, как он видел его в последний раз, и что крест в конце концов совершенно исчезнет. Затем я услышала слова «неуничтожимый крест»… Они прозвучали очень тихо, прямо сквозь речь говорившего. Тот невозмутимо продолжал свои рассуждения, так, словно ничего не слышал; он говорил, что нужно как можно скорее укрыть крест под стеклом. Вдруг опять раздался тот же тихий голос:
– Нет, нужно любить его и молиться ему…
Я не обратила на все это особого внимания, продолжая смотреть на изображение в глубине растрескавшейся стены, словно утопленное в нее, такое бледное и погасшее, как будто спящее. И вдруг оно ожило. То, что тогда произошло со мной, я не могу описать иначе, чем это сделали до меня тысячи людей: любовь Божья внезапно прорвалась наружу, и какая-то незримая сила толкнула меня к Кресту Спасителя. Это древнее, застывшее, полуугасшее распятие в одном из самых разрушенных храмов Рима, таком пустом и чуждом для молитв, словно это был всего лишь языческий храм искусствоведов (и таком же пустом и бедном, какой мне казалась моя собственная душа!), – оно вдруг открыло мне объятия и бросило меня на колени. В тот же миг с души моей словно сорвали завесу, и я узнала там тот же самый образ, перед которым я стояла на коленях, – печать любви, обретенной, отринутой, забытой и все же сохраненной, потому что эта любовь сама сохранила себя для меня. Именно от нее исходил зов, обращенный к моей душе, именно она, которая однажды властно привлекла меня к себе в образе дароносицы, как воплощенное блаженство, – она привлекла меня к себе сегодня, как будто ради меня обратилась болью. Ибо это я оставила и потеряла ее – сама же она всегда была рядом…
Когда я покидала церковь Санта Мария Антиква, мир был преображенным, как в то незабываемое утро после ночи в соборе Святого Петра. Теперь уже не мое собственное одинокое и неопределенное "я", а именно та Вечная Любовь переполняла душу и давала ей безграничную определенность. Я шла через бушующий, кипящий пылью Форум, но это был уже другой Рим: я шла через тот Рим Благодати, который таинственным образом, как богосиянная душа во Вселенной, встроен в Рим светский и великолепие которого, воссиявшее некогда из мрака катакомб, незримо для тех, кто сам не пробился через мрак.
Вечером того же дня я впервые за много времени вновь встретилась со своим звонкоголосым другом – маленьким фонтаном во внутреннем дворике. Он, который по-прежнему, не заботясь о своей собственной тяжести, в нежной струе воссылал к небу глухую тоску черной земли, – он показалася мне теперь, как в дни моего детства, другом и братом, только более твердым и преданным, чем я. Я еще находилась во власти сильного потрясения – открывшегося вдруг сознания, что ради тетушки Эдельгарт я однажды отреклась от бесконечной любви Божьей. Но именно от этого сознания и вспыхнула теперь моя глубочайшая страсть: я ощутила крест Любви Христовой как нечто адресованное лично мне. Это была волнующая и священная минута, когда душа впервые постигает, что Божественная любовь желает быть принятой не только с блаженством и даже не только с любовью, но и со страданием, ибо она сама стала страданием, и что, так же как для нее все зависит от страдания, для души все зависит от этой последней безусловности. В конце концов я встала и, воздев руки к небу, подобно плещущей внизу струе, стала страстно молить Бога о новом испытании, чтобы доказать свою любовь и самоотверженность. В эту молитву я смиренно вложила всю свою волю, все свое сердце и всю силу, которую имела. И с этой минуты все в моей жизни стало просто и ясно. Все само собой выстраивалось в том направлении, в котором мне надлежало идти.