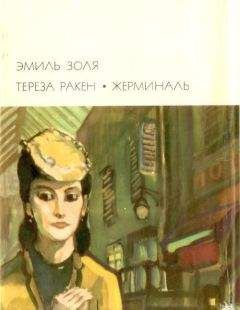Этьен смотрел на шахту, и кровь прихлынула у него к сердцу. Если рабочие страдают от голода, то и Компания начала терять свои миллионы. Почему же непременно она окажется более сильной в этой битве труда против капитала? Во всяком случае, победа обойдется ей дорого. Кончится сражение, тогда каждая сторона подсчитает свои потери. И вновь его охватила воинственная ярость, неистовая жажда покончить с нищетой, хотя бы ценою смерти. Пусть лучше весь поселок погибнет сразу, чем по-прежнему гибнуть постепенно от голода и несправедливости. Из путаницы прочитанного в книгах всплыли примеры: рассказы о народах, которые сжигали свои города, чтобы остановить наступление врага, туманные истории о том, как матери, желая спасти своих детей от рабства, разбивали им головы о булыжники мостовой, о том, как мужчины предпочитали лучше уморить себя голодом, чем есть хлеб тиранов. Он пришел в восторженное состояние, — душевный упадок сменился приливом жестокой веселости, изгнавшей сомнения; ему стыдно было за свое минутное малодушие. А вместе с возрождением веры воскресли и горделивые грезы и высоко вознесли его на своих крыльях. Так радостно было чувствовать себя вождем, видеть, что, повинуясь ему, люди идут на все жертвы; все ширилась его мечта о своем могуществе: в тот вечер он был триумфатором. Он представлял себе сцену, исполненную простоты и величия, — воображал, как он отказывается от власти и передает ее в руки народа.
Вдруг он вздрогнул и очнулся, — кто-то окликнул его; это был Маэ, возвращавшийся с рыбалки, он рассказал Этьену о своей удаче: поймал великолепную форель и продал ее за три франка. Значит, сегодня будет суп. Этьен сказал, что скоро вернется домой, и, предоставив Маэ одному идти в поселок, направился в «Выгоду»; сев там за стол, он подождал, пока уйдет посетитель, и тогда твердым тоном заявил Раснеру, что немедленно напишет Плюшару и пригласит его приехать к ним. Он принял решение созвать частное собрание, — победа казалась ему несомненной, если все шахтеры Монсу вступят в Интернационал.
IV
Собрание устроили в четверг, в два часа дня, в заведении вдовы Дезир «Смелый весельчак». Хозяйка, возмущенная нищетой, которую приходилось терпеть ее «питомцам», гневалась на Компанию, особенно с тех пор, как кабачок опустел. Никогда еще в забастовку люди не были такими трезвенниками, даже отъявленные забулдыги сидели дома из страха нарушить принятое всеми решение. Главная улица в Монсу, на которой в дни ярмарки кипел народ, была теперь безлюдной, мрачной; везде царила унылая тишина. На стойках в пивных пиво не лилось в кружки, а из кружек — в глотки; сточные канавы были сухи; у дверей кабаков, окаймлявших шоссе, у винного погребка Казимира, у распивочной «Прогресс» видны были только бледные лица кабатчиц, вопрошающе озиравших дорогу; а в самом Монсу пустовал весь ряд питейных заведений, начиная от кабачка Ланфана до распивочной «Головня», не исключая трактира «Виноградное» и пивной «Сорвиголова». Только в трактире «Святой Илья», в который ходили штейгеры, еще наливали несколько кружек за день; обезлюдел даже «Вулкан», лишились клиентов и дамы, подвизавшиеся там, хотя ввиду тяжелых времен они снизили свою цену с десяти до пяти су. Во всем крае сердца томило мрачное уныние.
— Ах ты дьявол! — воскликнула вдова Дезир, хлопая себя по бедрам. — И во всем жандармы виноваты! Пусть меня в тюрьму засадят, но я им устрою штуку!
Всех властей, всех хозяев, все начальство она именовала жандармами, этот презрительный термин обозначал всех врагов простого народа. Она с восторгом ответила согласием на просьбу Этьена: ну конечно, весь ее дом к услугам углекопов; она бесплатно предоставит им свой бальный зал, напишет от своего имени приглашения, раз закон этого требует. Впрочем, если что будет и не по закону, пусть себе злятся. На следующий день Этьен принес ей на подпись десятков пять приглашений, переписанных по его поручению грамотными жителями поселка. Письма эти послали в другие шахты — делегатам и прочим надежным людям. На повестку дня поставлен был вопрос о продолжении забастовки; но в действительности ждали Плюшара и рассчитывали, что после его речи произойдет массовое вступление углекопов в Интернационал.
В четверг утром Этьен очень встревожился, видя, что Плюшара, бывшего старшего мастера в его депо, все еще нет, хотя он обещал приехать в среду вечером. Что же случилось? Этьен огорчился, что не удастся посоветоваться с ним до собрания. В девять часов он отправился в Монсу, полагая, что Плюшар проехал прямо туда, не останавливаясь в Воре́.
— Нет, я вашего друга не видела, — ответила ему вдова Дезир. — Но у меня все готово, пройдите посмотрите.
И она повела Этьена в бальный зал. Украшения в нем оставались те же самые — гирлянды, подхваченные у потолка венком из пестрых бумажных цветов, и позолоченные картонные щиты с именами святых, развешанные по стенам. Только убрали подмостки для музыкантов и вместо них поставили в углу стол и три стула да выстроили в зале наискось несколько рядов скамей.
— Отлично! — одобрил подготовку Этьен.
— И знаете что? — сказала вдова. — Будьте тут как дома. Можете горланить сколько душе угодно… Если жандармы явятся, не пущу, — разве что убьют!
Пришли вдруг Раснер и Суварин, и вдова удалилась, оставив их троих в большом пустом зале. Этьен удивленно воскликнул:
— Вы здесь? Так рано!
Суварин, работавший в ночную смену (машинисты не бастовали), зашел просто из любопытства. Раснер хмурился — за последние два дня он казался озабоченным, на его круглой, пухлой физиономии больше не играла благодушная улыбка.
— Плюшар не приехал, я очень беспокоюсь, — сказал Этьен.
Кабатчик отвел взгляд в сторону и процедил сквозь зубы:
— Я-то не удивляюсь. Я его и не жду.
— Почему это?
Тогда Раснер, набравшись духу, посмотрел ему прямо в лицо и с вызывающим видом заявил:
— Да потому, что я тоже послал ему письмо, если хочешь знать. И в этом письме я умолял его не приезжать… Да, я считаю, что мы сами должны разобраться в своих делах, а не обращаться к посторонним.
Этьен пришел в исступление; дрожа от гнева, он впился взглядом в товарища и бормотал, заикаясь:
— Ты это сделал? Ты это сделал?
— Да, сделал. Будь спокоен. А ведь ты знаешь, как я уважаю Плюшара! Он умница и крепкий человек, ему можно доверять. Но, видишь ли, мне ваши взгляды противны! Политика, правительство, — мне на все это плевать! Я хочу только одного: чтобы углекопу лучше жилось. Двадцать лет я работал под землей, жил в нищете, надрывался в забоях и вот дал себе клятву — добиться облегчения для несчастных ребят, которые еще там маются. И я хорошо чувствую, что вы со всякими вашими выдумками ничего не добьетесь, из-за вас судьба рабочего будет еще тяжелее… Когда голод заставит углекопа спуститься в шахту, его еще больше прижмут. Компания ему отплатит, она с ним палкой расправится, как с убежавшей собакой, когда ее загонят в конуру. А я хочу этому помешать, слышишь?
Он говорил теперь громко и, выпятив брюшко, стоял уверенно, расставив свои толстые ноги. Вся его натура, человека рассудительного и терпеливого, сказывалась в ясных закругленных фразах, которые без малейшего усилия текли из его словоохотливых уст. Какая глупость! Вообразили, что так вот разом можно все перевернуть, поставить рабочего на место хозяев, разделить богатство, как делят детям яблоко? Тысячи и тысячи лет надо ждать, а тогда это? — может быть, и осуществится. Ну так вот, нечего морочить людей, сулить чудеса. Если не желаете расшибить себе лбы о стенку, будьте благоразумны: идите к ближайшей цели, требуйте действительно возможных реформ, — словом, постепенно, пользуясь любым случаем, облегчайте судьбу рабочего. И Раснер заявлял, что если б он взялся за дело, то сумел бы склонить Компанию к некоторым уступкам, а будут забастовщики упрямиться, пиши пропало, — все с голоду подохнут!
Этьен молча слушал, онемев от негодования. Затем крикнул:
— К черту! У тебя в жилах не кровь, а вода!
Еще мгновение, и он дал бы проповеднику умеренности пощечину. Боясь поддаться искушению, он принялся большими шагами ходить по комнате и, срывая свой гнев на скамьях, расшвыривал их ногами, освобождая себе проход.
— Затворите по крайней мере дверь, — тихо сказал Суварин. — Посторонним незачем вас слушать.
Он сам затворил дверь, а затем спокойно уселся на один из стульев, стоявших у стола президиума. Свернул себе папиросу и посмотрел на споривших мягким умным взглядом; губы его морщила тонкая улыбка.
— Нечего злиться, толку от этого не будет, — наставительно сказал Раснер. — Я сперва думал, что ты человек здравомыслящий, — ведь ты вон как умно придумал: посоветовал товарищам соблюдать спокойствие, убедил их не буянить в поселке, — словом, воспользовался своим влиянием для поддержания порядка. А теперь что ты собираешься делать? Хочешь бросить их в свалку!