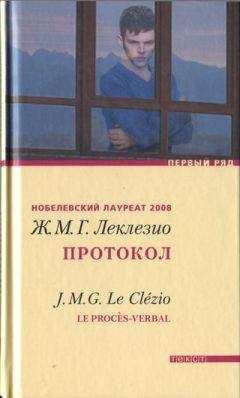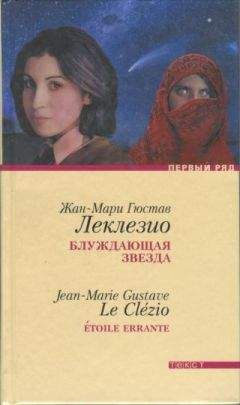Вечером, у себя в комнате в Форест-Сайде, я открываю старенький сундучок, заржавевший за годы моего пребывания в Английской лощине, и разглядываю относящиеся к кладу документы, карты, чертежи, заметки — перед отправкой в Европу я отослал их с Родригеса. Я смотрю на них и вижу Уму — как она одним махом ныряет в море, как плавает, зажав в руке острогу с эбеновым наконечником.
С каждым днем во мне растет желание вернуться на Родригес, снова оказаться среди тишины и покоя Английской лощины, вновь обрести это небо, эти облака, это никому не принадлежащее море. Мне хочется сбежать от людей «большого мира», от их злобы, лицемерия. После того как «Сернеен» опубликовал статью о «наших героях Мировой войны», в которой не только упоминалось мое имя, но мне еще и приписывались какие-то подвиги, не имеющие ничего общего с реальностью, мы с Лорой вдруг стали обнаруживать себя в списках приглашенных на все праздники, организуемые в Порт-Луи, Кюрпипе и Флореале. Лора наряжается в свое поношенное белое платье, и мы болтаем с гостями, танцуем. Еще мы прогуливаемся по Марсову Полю, пьем чай в кафе «Флора». А я все это время думаю об Уме, о криках птиц, пролетающих каждое утро над Лощиной. И люди, что окружают меня здесь, кажутся мне вымышленными, нереальными. Я устал от этих фальшивых почестей. Однажды, ничего не сказав Лоре, я оставляю в Форест-Сайде свой серый костюм клерка, облачаюсь в привезенные с войны мундир и штаны цвета хаки, грязные и рваные от долгого сидения в окопах, и, нацепив офицерские знаки отличия и обе медали — «За отвагу» и D. С. М., — усаживаюсь вечерком, ко времени закрытия конторы В. В. Уэста, в кафе «Флора», выпив предварительно несколько рюмок тростниковой водки. С этого дня все приглашения в свет прекращаются как по мановению волшебной палочки.
Однако Лора не может не заметить моей тоски и желания сбежать. Как-то вечером она поджидает меня с поезда в Кюрпипе. Она стоит под широкими листьями, белое платье и волосы намокли от мелкого, обычного для Форест-Сайда дождя. Я говорю ей, что она похожа на Виргинию, и она улыбается моим словам. Мы идем рядом по грязной дороге среди индусов, возвращающихся домой на ночь. Вдруг Лора говорит:
— Ты скоро опять уедешь, правда?
Пока я ищу какое-нибудь ободряющее слово, она повторяет:
— Ты скоро опять уедешь? Скажи мне правду.
И, не дожидаясь моего ответа, а может, потому, что знает его заранее, она начинает сердиться:
— Почему ты ничего не говоришь? Почему я должна узнавать обо всем от других?
Она не сразу решается сказать это:
— Про эту женщину, с которой ты там живешь — как дикарь! И про этот дурацкий клад, что ты все ищешь, ищешь без конца!
Откуда она узнала? Кто рассказал ей про Уму?
— Мы никогда не сможем жить как раньше, нам здесь нет места!
Мне становится больно от ее слов, потому что я знаю: это правда. И я говорю:
— Поэтому мне и надо ехать. Поэтому я и должен добиться своего.
Как ей объяснить? Но она уже взяла себя в руки. Вытирает обратной стороной руки текущие по щекам слезы, по-детски сморкается. Вот и наш дом в Форест-Сайде, мрачный, похожий на корабль, заброшенный потопом на вершину холма.
Вечером, после ужина вместе с Мам, Лора выглядит веселее. Мы сидим на веранде, разговариваем о моем путешествии, о кладе. Лора говорит с игривым видом: «Когда ты найдешь сокровище, мы приедем к тебе туда. Построим ферму, будем работать, делать все своими руками, как первые поселенцы в Трансваале».
И тут мы начинаем мечтать вслух, как когда-то на чердаке в Букане. Мы говорим о ферме, о скотине, которую заведем, потому что там, вдали от банкиров и адвокатов, мы всё начнем сначала. Я нашел среди отцовских книг сочинение Франсуа Легюа и зачитываю куски из него, где говорится о растительности, о климате, о красоте Родригеса.
На мой голос из своей комнаты выходит Мам. Она идет к нам на веранду, и в свете штормового фонаря ее лицо кажется мне таким же молодым, таким же прекрасным, как во времена Букана, когда она объясняла нам грамматику или читала из Священной истории. Она слушает нашу глупую болтовню, а потом целует нас и прижимает к себе: «Все это мечты».
В этот вечер старый ветхий дом в Форест-Сайде и правда похож на корабль, что, скрипя и качаясь, плывет под тихий шелест дождя через моря к новым, неизведанным островам.
Мне кажется, что после стольких лет изгнания свобода и жизнь вернулись ко мне вместе с «Зетой». Я снова на своем обычном месте, на корме, рядом с капитаном Брадмером, сидящим в привинченном к палубе кресле. Мы уже двое суток идем при попутном ветре вдоль двадцатой параллели на северо-восток. Когда солнце поднимается высоко в небе, Брадмер встает со своего кресла и, как когда-то, обращается ко мне: «Не желаете попробовать, мсье?»
Как будто мы и не переставали плавать вместе всё это время.
Я стою босиком на палубе, вцепившись обеими руками в штурвал, и чувствую себя абсолютно счастливым. На палубе — никого, кроме двух матросов-коморцев в белых тюрбанах на головах. Мне нравится снова слышать свист ветра в вантах, смотреть, как, задрав нос, карабкается на волны судно. Кажется, будто «Зета» взбирается на горизонт, туда, где рождается небо.
Все было будто бы вчера: мое первое плавание на Родригес, когда, стоя на палубе, я ощущал, как диковинным зверем шевелится подо мной корабль; тяжелые волны, ныряющие под форштевень, вкус соли у меня на губах, безмолвие, море. Да, мне кажется, что я и не покидал этого места, у руля «Зеты», что так и плавал в погоне за вечно ускользающей целью, что всё остальное — лишь сон. Всё сон: золото Корсара, спрятанное в Английской лощине, любовь Умы, ее тело цвета лавы, прозрачные воды лагуны, морские птицы. Война, ледяные ночи во Фландрии, дожди на берегах Анкра и Соммы, облака газов и вспышки снарядов — всё сон.
Когда солнце за нашей спиной вновь спускается к горизонту и тени от парусов ложатся на море, капитан Брадмер забирает у меня штурвал. Он стоит, наморщив от солнечных бликов красное лицо, и я вижу, что он совсем не изменился. Я ни о чем не прошу его, он сам рассказывает мне, как умер рулевой.
«Это было в шестнадцатом году, а может, в начале семнадцатого… Мы прибыли на Агалегу, и он слег. Жар, понос, он бредил. Позвали врача, и тот объявил карантин, потому что это был тиф… Они боялись заразы. Он не мог ни есть, ни пить. А на следующий день умер, врач так и не пришел больше… И тогда я рассердился. Мы им не нужны — и не надо. Я велел выбросить весь товар прямо в море, у берегов Агалеги, и мы пошли на юг, к Сен-Брандону… Он ведь там хотел закончить свое плавание… Привязали мы ему к ногам гирю и бросили в море напротив рифов, там, где сотня морских саженей глубины и вода синяя-синяя… Он сразу пошел ко дну, а мы прочитали молитву, и я сказал: рулевой, дружище, вот ты и дома, навсегда. Покойся с миром. А остальные сказали: аминь… Мы простояли у атолла два дня, погода была прекрасная — ни облачка, море тихое-тихое… Смотрели на птиц, на черепах — как они плавают у самого судна… Несколько штук мы поймали, чтобы закоптить, а потом отправились в обратный путь».
Он говорит неуверенно, запинаясь, и ветер заглушает его голос. Старик смотрит прямо перед собой, куда-то за раздутые паруса. В вечернем свете его лицо вдруг выглядит усталым, будто ему все равно, что с ним будет дальше. И я понимаю, что заблуждался. Та история кончилась, и здесь тоже мир уже не тот, что раньше. Войны, преступления, надругательства — из-за всего этого жизнь испортилась, стала другой.
«И вот что странно, я ведь так и не нашел себе рулевого. Тот-то знал море как свои пять пальцев, до самого Омана… А теперь такое ощущение, что корабль сам не знает, куда плывет. Чуднó, правда? Он, он был настоящим хозяином корабля, он держал его в своих руках…»
И в этот миг, когда я смотрю на такое прекрасное море, на ослепительный пенный след, остающийся на непроницаемой глади, мною снова овладевает тревога. Мне страшно вновь оказаться на Родригесе, я боюсь того, что найду там. Где Ума? Оба письма, что я послал ей, первое — из Лондона, перед отправкой во Фландрию, второе — из госпиталя, из Сассекса, остались без ответа. Дошли ли они до нее? Можно ли вообще писать письма манафам?
На ночь я в трюм не спускаюсь. Устраиваюсь среди сложенных на палубе тюков и засыпаю, закутавшись в свое одеяло и положив голову на вещевой мешок, под наполняющий паруса шум моря и ветра. Потом просыпаюсь, иду помочиться через фальшборт и, вернувшись на место, сажусь и смотрю на усыпанное звездами небо. Как долго тянется в море время! Каждый проходящий час смывает с меня то, что должно быть забыто, приближая к вечной фигуре рулевого. Может, с ним я и должен встретиться в конце моих скитаний?
Сегодня ветер переменился, «Зета» идет в бейдевинд, наклонив мачты под углом в шестьдесят градусов, а ее форштевень выбивает из бурного моря облака пены. У штурвала — новый рулевой, негр с бесстрастным лицом. Рядом с ним, не обращая внимания на наклон палубы, сидит в старом, привинченном к палубе кресле капитан Брадмер и, покуривая, смотрит на море. Все мои попытки завязать разговор разбиваются о два слова, которые он цедит сквозь зубы, даже не глядя на меня: «Да, мсье? Нет, мсье». Дует шквалистый ветер, большая часть команды укрылась в трюме, только торговцы с Родригеса не уходят с палубы, не желая оставлять без присмотра свои тюки. Матросы наспех прикрыли груз брезентом и задраили передние люки. Я засунул свой вещмешок под брезент и, несмотря на яркое солнце, кутаюсь в одеяло.