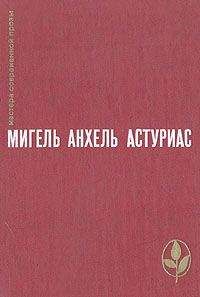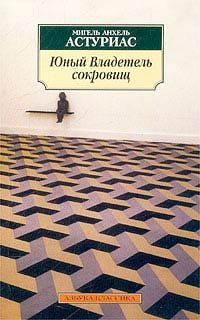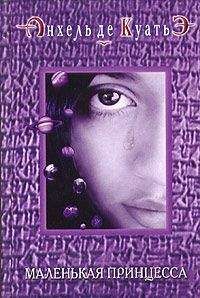— Они на кухне, — сказал Макарио. — Мы можем все пойти туда и поднести им по рюмочке… в утешение за купанье.
Бастиан выпил, и мужчины последовали за сеньорой Гауделией поздороваться с «утопленницами». Хуан Состенес и Лисандро уже были там, привлеченные не бедой, случившейся с женами, а бодрящим запахом кровяной колбасы, шипящей на сковородке.
— Не проведете нас, голубчики, — сказала, входя, сеньора Гауделия. — Я-то сначала думала, вы, нежные мужья, здесь из-за Марии Игнасии и Арсении. Ну, ладно, а вы, кумушки, уже напробовались? Любимая еда Хуансоса. Ишь глаз не сводит. Мне тоже нравится, да желудок не выдерживает. Выпили бы глоточек. Это полезно, когда вымокнешь.
— Бегают в одних штанах, вот и вымокли…
— В каких штанах? — удивилась Арсения.
— В обыкновенных, — то, что на вас надето, платьем не назовешь, продолжал подшучивать над ними Макарио. — Оголились до пупа, а юбки выше коленок…
— Не говори глупостей, Макарио! — пробасила сеньора Игнасия и добавила естественным тоном: — Нравится вам или нет, а мы должны привыкать так одеваться. Если мы приедем туда в юбках до полу, нас за цыганок примут.
— Сомневаюсь, что все женщины смогут приноровиться. Тебя, например, Гауделия, и сеньору Корону не согнешь, — проговорил Бастиан, не то всерьез, не то в шутку, ища глазами Макарио, супруга Короны.
Тот кивнул головой и пробурчал:
— Да… Разве что жену мою, Корону, заново переделывать придется… Все равно как индейцы, которые в своих банях-темаскалях голыми моются. Сейчасто она вас не разглядела больными глазами и небось в самом деле поверила, что вы в одних штанах.
— Нет, не в одних. У нас еще и аппаратики есть в ушах — слушать, как вода на дворе журчит, — сказала лукаво сеньора Арсения, давая понять, что ехидные слова Макарио о штанах значат не больше, чем шум дождя. И прибавила: — Корона только и знает спать да молиться, все остальное для нее — грехи адовы…
— Всяк живет по-своему, — вмешался Хуан Состенес, не сводя глаз с жаркого, и сплюнул, чтобы закончить фразу: при виде колбасы рот переполнился слюной. — Если там такая мода, то моя жена сто раз права. Как они будут ходить пугалами в длинных юбках, если все ходят в коротких?
Макарио снова наполнил рюмки, и Гауделия сочла момент подходящим, чтобы расплатиться с Арсенией за насмешку над благочестием бедной Короны:
— А ведь не только платья укорачивать придется, но и волосы. Почем зря обкорнают. И имена тоже. Лусеро говорят, что наши имена не слишком подходят для высшего света: Арсения, например, будет Соня, а Мария Игнасия — Мери…
— Вы думаете нас этим испугать, Гауделия? — не замедлила возразить сеньора Игнасия. — Да, я буду Мери, а Арсения — Соня: русское имя, как в том фильме…
— Вот и хорошо, обзаведетесь именами богатых и сможете общаться с честными людьми, а мы пойдем, Бастиан, у меня от этой колбасы аппетит разыгрался…
— Ну, так оставайтесь обедать, — послышался тихий голос Короны; она перестала молиться, встала с кресла и пришла в кухню.
— Как я рада, Корона, что ты приободрилась, но не советую оставаться в кухне, тут так жарко и дымно!
— Я пришла, Гауделия, напомнить Макарио, чтобы он зашел к доктору за глазными каплями для меня.
— Ох, чуть не забыл. Что за голова стала!
— Вот мы с вами вместе и выйдем, Макарио. Мужей от бутылки силой не оторвешь, Корона.
— Всегда она с пути сбивает… — сказал Хуан Состенес.
— Хоть и неласкова бывает, — прибавил Бастиан, обняв жену за талию и направляясь вслед за Макарио к дверям.
То там, то здесь пробивалась золотая брешь на небе, затянутом тучами. Стало еще жарче. Так всегда бывает после ливня. С земли поднимался пар, как со спины загнанного мула. Прогромыхал товарный поезд. Светились окна домов. Скорее бы добраться до гамака и уснуть. Музыка, музыка, рвущая тишину, жалкая человеческая музыка, патефон, радио… Ничто на фоне великого оркестра природы, ибо жизнь частиц природы проявляется в других звуках; музыка — кипение крови, музыка — любовь… Звуки, обрывки звуков…
Повсюду прошел слух о земле. Земля превращалась в слухи. И это сводило людей с ума. Землю будут дарить. Ее будут делить среди самых бедных. Ее будут сдавать в аренду. В аренду на долгий срок, но больше для виду, потому что платить придется самый пустяк. Ее будут продавать втрое, вчетверо дешевле обычного. Родственники, близкие, дружки, знакомые Кохубуля и Айук Гайтана распространяли всякие слухи, уверенные в том, что при дележке земли получат кусок побольше, — ведь теперь им, этим богачам, земля ни к чему, они уезжают за границу. Землю будут делить… ее будут раздавать… без всякой оплаты… отдадут просто так… Придется, правда, заплатить нотариусу… но совсем немного… А плантации хорошие, уже плодоносят…
— Пришел я ополоснуться, хозяин, чтоб с чистым лицом на распродажу земли идти, — сказал Чачо Домингес, входя в заведение Пьедрасанты, где торговали всякой всячиной и спиртным тоже.
Парень подошел к стойке — решительным шагом, дымя, как труба, пахучим табаком, который он выторговал в комиссариате.
— Если ополоснешься, шрам будет виден, Чачо, сказал Пьедрасанта, облокачиваясь на стойку в ожидании заказа.
— Да, царапина не из красивых… — И он провел кончиками пальцев по рубцу, рассекавшему щеку и шею: мачете задел его мимоходом, а если бы не задел, уложил бы другого.
— Ничего, парень, под щетиной не так заметно…
— Что поделаешь, Пьедра, бой был не на жизнь, а на смерть! Хочу поднять стаканчик за твое здоровье! Не найдется ли чего-нибудь закусить?
— Что-нибудь найдется, Чачо. Сыр подойдет?
— Если из Сакапы, давай, я тоже оттуда. Вроде бы родной землицей закушу.
Взял стопку и, поднося к губам, добавил:
— Даже святая эта водица раскаляется на побережье. Что спирт, что душа…
— Сейчас, значит, земля с торгов пойдет? — спросил Пьедрасанта, доставая миску с двумя ломтями сыра. Парень выпил и приосанился — ни дать ни взять, настоящий богач.
— Так говорят. Хочу принять участие. Если не очень заломят цену, может, кое-что приторгую.
Входили другие завсегдатаи кабачка. Все, как видно, следовали совету Чачо. Стопку — залпом, плевок — на пол, тихий вздох украдкой, руку — на пояс, где висит портупея с револьвером, а локтем — по бутыли: еще, мол, налей. Вторую стопку — за третьей, третью за четвертой, четвертую за пятой — все своим чередом.
— Когда спешишь, считать незачем, — сказал Чачо, — все едино… Ни первой нет, ни последней. Как у нас говорится: «Если ты мне друг, ставь бутылки в круг, если ты мне друг…»
Площадь сверкала под солнцем, жестким, накрахмаленным, режущим солнцем. Толпы крестьян — широкие сомбреро, штаны, рубаха, — и отряд всадников, туго натянувших поводья, чтобы не давить людей, которые шатались в ожидании дележа земель по площади. Простые земледельцы ждали только бесплатную раздачу — о ней слышали не раз и не два, и, поскольку читать не умели, им было невдомек посмотреть, о чем гласило объявление, прибитое к дверям муниципалитета и начинавшееся словами: «Продажа земель тем, кто даст наибольшую цену». И, даже умея читать, они не смогли бы поверить, ибо им незачем было этому верить, а когда написано то, во что верить совсем незачем — пусть стоят там любые слова, — все равно, слова ничего не значат.
Братья Айук Гайтан прибыли верхом на горячих конях, а Бастиан Кохубуль — в автомашине, длинной, как паровоз: капот горячий, колеса белые и всякие блестящие штучки. Их ожидали судья и алькальд. Дон Паскуаль держал жезл с черными кистями и серебряной ручкой.
Вступительная речь судьи о выгодах дробления земли, о том, что надо покончить с латифундией, была внезапно прервана. Здоровый жеребец, сверкнув зубами — беломраморная пенистая молния, — словно громом взлохматил черное облако блестящей гривы и расчесал ее в прыжке, безрассудном, как само желание, ринувшись на кобылу. Крики, ахи, вопли; ловкие пеоны вынырнули из толпы — будто летучие рыбы, — чтобы осадить обезумевшего коня.
— Дурное начало, — сказал Пьедрасанта жене; они стояли в дверях своего кабачка на площади недалеко от муниципалитета. — Плохо кончится дело. Послушай-ка, что кричат.
— Делить… делить землю… Делить ее… делить… делить… делить землю… Делить землю… Делить ее… делить… делить…
Все, что не откликалось на требование крестьян, переставало существовать. Заставили смолкнуть судью. Кончилась власть алькальда. Первые камни стукнули по черно-серебряной автомашине, где сидела семья Кохубуля.
— Делить землю… делить ее… делить… делить… Делить землю… делить землю… делить ее… делить…
Единый крик стал горизонтом, площадью, крышами, домами, травой, небом, народом, шедшим напролом:
— …делить… делить ее… делить…
Бунт усмирили скоро, быстрее, чем коня, прыгнувшего на кобылу, но следы стычки остались: на истоптанной земле, клубившейся пылью, валялись камни, палки, кокосовая скорлупа, пивные бутылки…