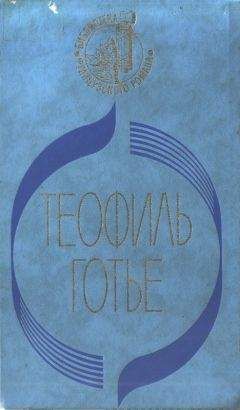Теперь мы учим роли и представляем собой прелюбопытнейшее зрелище. Во всех уединенных уголках парка вы, без сомнения, найдете кого-нибудь из наших: в руке листок бумаги, губы бормочут текст, глаза то возведены горе, то потуплены долу, а руки по семь-восемь раз кряду воспроизводят один и тот же жест. Не будь заранее известно, что мы собираемся играть комедию, нас бы наверняка приняли за сборище умалишенных или поэтов (что едва ли не плеоназм).
Полагаю, что скоро мы выучим достаточно, чтобы устроить репетицию. По-моему, это будет нечто весьма необычное. Возможно, я и ошибаюсь. Я было испугался, что вместо того чтобы играть по вдохновению, наши актеры примутся копировать позы и модуляции голоса какого-нибудь модного артиста, но, к счастью, они не настолько пристально следят за театральными постановками, чтобы подвергаться такому неудобству, и можно надеяться, что сквозь неловкость людей, ни разу не поднимавшихся на подмостки, у них будут проступать драгоценные вспышки естественности и то чарующее простодушие, которое не в силах воспроизвести самый совершенный талант.
Наш юный живописец воистину совершил чудеса: невозможно было бы придать более причудливые формы стволам древних деревьев и оплетающему их плющу; за образец он взял деревья в парке, но подчеркнул и гиперболизировал их облик, как и нужно для декораций. Все изображено с восхитительной отвагой и восхитительной прихотливостью; камни, скалы, облака словно строят таинственные гримасы; на зыбких и живых, как ртуть, водах, играют сверкающие блики, и обычная прохлада листвы сказочно усилена оттенками шафрана, которые набрасывает на нее кисть осени; лес играет всеми красками от изумрудно-зеленой до сердоликово-пурпурной; самые теплые и свежие тона сопоставлены наиболее гармоническим образом, и даже небо переходит от самой нежной голубизны к самым огненным цветам.
Все костюмы он нарисовал по моим указаниям; они отменно выразительны. Сперва поднялся крик, что их невозможно воплотить ни в шелке, ни в бархате, ни в какой бы то ни было известной материи, и я уже предчувствовал, что все остановятся на костюмах в стиле «трубадур». Дамы говорили, что эти пронзительные цвета лишат их глаза природного блеска. На это мы ответили, что их глаза — воистину неугасимые звезды и, напротив, они, эти глаза, заставят потускнеть не только краски, но и кинкеты, люстру, а при случае и само солнце. На это им нечего было возразить, но, точь-в-точь как у Лернейской гидры, перед нами отрастали и щетинились все новые возражения: не успевали мы снести голову одному, как на его месте являлось другое, еще более упрямое и дурацкое.
— По-вашему, это будет держаться? На бумаге-то все прекрасно, но на человеке будет сидеть совсем по-другому, это никогда на меня не налезет! Моя юбка по меньшей мере на четыре пальца короче положенного, ни за что не осмелюсь щеголять в таком виде! Этот воротник чересчур высок: я в нем какая-то горбатая; кажется, что у меня нет шеи. Эта прическа меня нестерпимо старит.
— Были бы крахмал, булавки да чуть-чуть доброй воли, и все будет держаться… Ну, вы смеетесь! Это ваша-то осиная талия, такая тоненькая, что пройдет сквозь перстенек, который я ношу на мизинце?.. Ставлю двадцать пять луидоров против одного поцелуя, что ваш корсаж еще придется ушивать. — Ваша юбка ни в коей мере не чересчур коротка, и если бы вы сами увидели, какие у вас очаровательные ножки, вы бы со мной согласились… Напротив, в ореоле кружев ваша шейка выделяется и смотрится наиболее выгодным образом… Эта прическа ни капельки вас не старит, но даже если б вы и выглядели в ней на несколько лет постарше, то при вашей крайней молодости вам это должно быть как нельзя более безразлично; право, вы наводили бы нас на самые странные подозрения, если бы нам не было доподлинно известно, где брошены осколки вашей последней куклы… et caetera.
Ты себе не представляешь, какое чудовищное количество мадригалов пришлось нам расточить, дабы уговорить наших дам надеть очаровательные костюмы, которые были им донельзя к лицу.
Кроме того, нам стоило большого труда заставить их надлежащим образом наклеить мушки. Какой у женщин убийственный вкус! И каким титаническим упрямством одержима юная слабонервная щеголиха, воображающая, будто яблочно-соломенный желтый цвет идет ей больше, чем оттенок желтого нарцисса или ярко-розовый. Я убежден, что если бы в делах общественных пустил в ход половину той хитрости и тех интриг, которые ухлопал на то, чтобы укрепить красное перышко не справа, а слева, я стал бы императором или, по меньшей мере, государственным министром.
Каким же пандемониумом, какой огромной безысходной толкучкой должен быть настоящий театр!
С тех самых пор, как затеяли сыграть комедию, весь дом находится в полнейшем беспорядке. Все ящики выдвинуты, все шкафы опустошены; сущий разор! Столы, кресла, консоли — все загромождено вещами; не знаешь, куда ступить: по всему дому валяется чудовищное количество платьев, накидок, вуалей, юбок, плащей, шляп, шляпок; как подумаешь, что все это предназначено облекать тела семи-восьми человек, невольно приходят на ум ярмарочные фигляры, натянувшие на себя по восемь — десять кафтанов одновременно, и невозможно вообразить себе, что изо всей этой горы тряпья выйдет лишь по одному костюму на каждого.
Слуги только и делают, что снуют взад и вперед; двое или трое из них постоянно находятся в пути из замка в город или обратно, и если дальше будет продолжаться в том же духе, они запалят всех лошадей.
Директору театра некогда предаваться меланхолии, и с некоторых пор я перестал быть меланхоликом. Я до того измучен и оглушен, что перестаю понимать что бы то ни было в этой пьесе. Поскольку помимо роли Орландо я исполняю еще и роль импресарио, на меня ложится двойное бремя. Чуть только возникает заминка, все сразу обращаются ко мне, а поскольку мои суждения не всегда принимаются как приговор оракула, то мы увязаем в бесконечных спорах.
Если жить значит быть всегда на ногах, отвечать на двадцать вопросов разом, носиться вверх и вниз по лестнице, ни минуты в день не уделять размышлениям, то я никогда не жил такой полной жизнью, как на этой неделе; однако я принимаю во всем этом кипении не такое уж участие, как можно подумать. Суета моя весьма поверхностна; и если заглянуть на несколько саженей вглубь, то обнаружится стоячая вода, не затронутая ни малейшим течением; жизни не так уж легко меня захватить, и на самом деле именно в такие минуты я живу меньше всего, хоть и кажусь деятельным и вмешиваюсь во все, что творится кругом; деятельность утомляет и отупляет меня до такой степени, что трудно вообразить; когда я не действую, то размышляю или хотя бы мечтаю, что само по себе уже форма существования; я лишаюсь ее, стоит мне отрешиться от невозмутимости фарфорового божка.
До сих пор я ничего не делал и не знаю, буду ли когда-нибудь делать. Я не умею останавливать работу своего мозга, а в этом и состоит разница между гением и талантом: во мне происходит постоянное бурление, волна подгоняет волну; я не в силах обуздать этот внутренний поток, брызжущий от сердца к голове, в котором, лишенные выхода на волю, тонут все мои мысли. Я ничего не способен произвести на свет — не от бесплодия, а от чрезмерного изобилия; мысли мои растут так густо и тесно, что глушат друг друга и не поспевают вызревать. С какою бы неистовою быстротой ни происходило воплощение, ему никогда не достичь такой резвости; пока я пишу фразу, мысль, которую она передает, уже настолько отдаляется от меня, как будто миновала не секунда, а целое столетие, и подчас мне приходится вставлять в нее краешек той мысли, которая сменила у меня в голове предыдущую.
Вот почему я никогда не научусь жить — ни как поэт, ни как любовник. Я могу высказывать лишь те мысли, от которых уже отошел; я обладаю женщиной, лишь когда я уже забыл ее и люблю другую; и как могу я, мужчина, претворить в жизнь свою волю, если, как бы я ни торопился, все равно поступаю не так, как велит мне чувство, и действую скорее по указке смутных воспоминаний?
Добыть идею из залежей собственного мозга, извлечь ее, сперва необработанную, как глыбу мрамора, которую вырубают в карьере, поместить перед собой и с утра до вечера, взяв в одну руку резец, а в другую молоток, стучать, резать, скоблить и похищать у ночи щепотку песка, чтобы бросить ее на свое произведение… Вот уж что никогда мне не удается!
В мыслях я легко извлекаю хрупкую фигуру из грубой глыбы и отчетливо вижу ее перед собой; но столько углов нужно обрубить, столько осколков отбросить, столько поработать резцом и молотком, чтобы приблизиться к форме и уловить те самые изгибы контуров, что на руках у меня выскакивают мозоли, и я роняю резец на пол.
Если же я упорствую, усталость овладевает мною с такой силой, что внутренняя моя жизнь полностью омрачается, и сквозь мраморное облако я более уже не прозреваю божества, притаившегося в его толще. Тогда я принимаюсь гоняться за ним наудачу и словно на ощупь; чересчур вгрызаюсь в один кусок, недостаточно прохожусь по другому; удаляю то, что должно было стать рукой или ногой и оставляю нетронутой плотную массу там, где следовало быть пустоте; вместо богини я творю уродца, а иногда нечто ничтожнее уродца, и великолепная глыба, с такими издержками и таким тяжким трудом извлеченная из недр земли, избитая молотком, искромсанная, испещренная бороздами и вмятинами, выглядит так, словно не ваятель трудился над ней по заранее обдуманному плану, а полипы изгрызли и изъели ее, превратив в подобие улья.