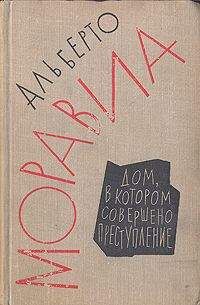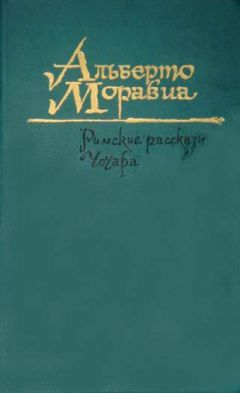Спасибо вам за то, что терпеливо выслушали разбор моего персонального дела. Еще раз сердечное всем спасибо.
Клац. Флавия замолкает, по-прежнему нагнувшись вперед. Зеленый свет сменяется желтым, что вызывает всеобщую слаженно-размеренную овацию.
Склонившись над столом, она неожиданно меняет положение ног, чтобы размять затекшие колени. Правая нога была подогнута вперед, левая выставлена назад. Флавия сгибает левую ногу и отставляет правую.
И тут вопреки моему желанию происходит проклятый "прямой контакт", о котором, несмотря на все мои запреты, "он", разумеется, не переставал думать все это время.
В то самое мгновение, когда Флавия, меняя позу, делает резкие движения тазом — одно вправо, другое влево, — "он" застигает меня врасплох и неудержимо толкает вперед. Оказавшись точно посредине этой ягодичной рокировки, "он" получает два боковых удара: справа и слева, наподобие свисающей с потолка овальной груши во время тренировок боксеров.
Двойная оплеуха длится не более секунды. Флавия, конечно, почувствовала неуместную и нахальную близость и резко выпрямилась как ошпаренная.
Не на шутку обозленный "его" непослушанием, я восклицаю: "- Так тебе и надо: повыпендриваться захотел — вот и получи. Хотя достанется, как всегда, опять мне. Скажи на милость, как я буду объяснять Флавии твою неслыханную выходку?" Не отвечает. На миг я наивно приписываю "его" молчание вполне объяснимому стыду.
Увы! Я жестоко ошибаюсь. Внезапно, к моему невыразимому замешательству, исподтишка, легко, самопроизвольно и неощутимо, как смола, сочащаяся из ствола, "он" разряжается или, точнее, растекается у меня меж ног. И делает это с такой безболезненной, привычной непринужденностью, что я ни о чем бы и не догадался, если бы не почувствовал на внутренней части бедра горячую, густую струю спермы.
Трудно описать все мое негодование. Какое гнусное предательство! У-у, бан-дюга! Пользуется тем, что идет собрание революционной группы и рядом со мной за дискуссионным столом стоят Флавия и Маурицио. Будь я один — завопил бы благим матом, искусал бы себе руки, исцарапал лицо, стал бы рвать волосы на голове, биться о стену, кататься по полу. А еще, глядишь, исполнил бы давнишнюю угрозу: схватил бы бритву и отчикал бы "его" под корень одним махом.
Одновременно я начинаю испытывать мучительные угрызения совести, вроде тех, что терзали когда-то отшельников в тиши глухих скитов или пещер, когда им не удавалось отвадить от себя искушения, тонко подстроенные лукавыми бесами и изощренным воображением. Весь взмокший, с перемазанными и слипшимися волосами в паху, остолбенев от испуга и смущения, не в состоянии собраться с мыслями, стою ни жив ни мертв, слабо соображая, что происходит вокруг.
К счастью, события принимают совершенно непредвиденный оборот и близятся к скорому завершению благодаря весьма банальному, хотя и показательному недоразумению.
Рукоплескания в адрес Флавии не стихают, поскольку на светофоре по-прежнему сияет вызвавший их желтый свет. Так продолжается довольно долго: молодые люди хлопают в ладоши; Флавия, уже не согнувшись, а вытянувшись, как по стойке "смирно", с опущенными по швам руками, снисходительно принимает аплодисменты; Маурицио стоит, не шелохнувшись, с непроницаемым видом; я торчу между ними, ежусь от неудобства и снедающей меня злобы.
Хлопки почему-то длятся дольше обычного. Желтый свет горит, как и горел; однако в ритме аплодисментов уже нет четкости: они звучат как-то вяло, вразнобой.
Светофор упрямо показывает желтый. И вот некогда стройные аплодисменты окончательно распадаются. Одни хлопают в прежнем ритме, другие не следуют никакому ритму, а третьи и вовсе не хлопают. Внезапно чей-то одинокий голос, шутя, протестует во всей этой неразберихе: — Эй, не пора ли кончать? И так уже ладони поотбивали. — Аплодисменты моментально прекращаются. В наступившей тишине Флавия спрашивает: — В Чем дело, Паоло? На другом конце гостиной регулировщик светофора яростно нажимает на все кнопки пульта.
Отчаявшимся голосом Паоло отзывается: — Да не фурычит эта штука! — Попробуй еще.
— Пробовал: ее заклинило на аплодисментах.
— То есть на желтом свете? — На нем.
Не растерявшись, Флавия спокойно обращается к Маурицио: — Светофор вышел из строя. Думаю, что сегодняшнее заседание можно закрыть.
Маурицио кивает в знак согласия, подходит к микрофону и говорит: — Из-за технических неполадок мы вынуждены прервать наше заседание. Поэтому я предлагаю принять к сведению самокритичное выступление Рико и вынести по нему окончательное решение на следующем заседании. Пока же мы с Рико продолжим работу над сценарием и будем придерживаться его строгой первоначальной трактовки, разработанной в свое время Флавией и мною и единогласно одобренной общим собранием группы.
Маурицио замолкает и отходит назад. Флавия тут же подлетает к микрофону и объявляет: — А теперь искренне и горячо поприветствуем нашего любимого председателя.
Все вскакивают и лупят в ладоши. Светофор уже выключен, поэтому аплодируют стихийно, порывисто. Несмотря на смущение, я, не удержавшись, тихонько спрашиваю у Флавии: — А кто председатель? — Маурицио.
Аплодисменты длятся полторы минуты: украдкой я засекаю время по наручным часам. Закончив хлопать, участники собрания гурьбой выходят под шум раздвигаемых стульев через дверь в глубине гостиной. Смотрю на них, как в дурмане. Вдруг "его" голос, нет-нет, я не ошибся, именно "его" голос шепчет мне: "- Да ладно, чего там, скажи честно: клево было, а?" В моем скотском состоянии я даже не знаю, что на это ответить. "Он" настаивает: "- Будет дуться-то. Неужели не понял, что в тот самый момент, когда этот молодняк поносил тебя на чем свет стоит, Флавия захотела, чтобы ты стал ее властелином? Неужели не почувствовал, что, когда все хором ополчились на тебя и устроили заранее подготовленный суд Линча, Флавия как будто кричала, и это был крик ее души: "Да, вот мой король, а я его королева"?" Даже не хочу "ему" отвечать. А если бы ответил, то примерно так: "Я все равно считаю, что Флавия тут ни при чем. Если же ты и прав, то и тогда это не имеет ко мне никакого отношения. И прошу не ввязывать меня в эту историю. Я об этом и знать ничего не желаю. Все, что произошло, касается только тебя и Флавии". Но ответить "ему" означало бы, по сути дела, принять "его" всерьез. А принять всерьез значит простить. Между тем именно сейчас я зол на "него"; я презираю и ненавижу "его". Сжав зубы и нахмурив брови, молча выхожу из гостиной вслед за Маурицио и Флавией. Какой-то предмет, застрявший за воротничком рубашки, натирает мне шею. Поднимаю руку и достаю… одну из тех десятилировых монеток, которые моя миловидная обвинительница Патриция недавно швырнула мне в лицо в знак презрения.
Сегодня целых два посетителя. Сначала Флавия, потом Маурицио.
Начнем с Флавии.
Дверной звонок ожил в необычное время — в три часа пополудни. Не говоря уже о том, что на дворе конец июля, а на календаре воскресенье. Одно из двух: или телеграмма, или ошиблись адресом, думаю я себе, встаю с кровати, на которую прилег было отдохнуть, накидываю халат, иду открывать и едва не утыкаюсь носом в два объемистых шара — груди Флавии под неизменно перекошенным платьем.
У меня такой изумленный вид, что Флавия не может удержаться и манерно прыскает слегка натужным смешком.
— Как не стыдно! — восклицает она. — Хотя бы запахивайся, когда открываешь дверь.
В спешке я и впрямь не до конца запахнул халат, и теперь сквозь разошедшиеся полы видны мои белые волосатые ноги и даже часть бедра. Смутившись, я прикрываю свою невольную наготу и следую за Флавией: она идет впереди меня и, хотя никогда не бывала здесь раньше, с необъяснимой уверенностью направляется прямиком в спальню. Я бросаюсь ей наперерез: — Нет-нет, не сюда. Лучше в кабинет.
— А куда ведет эта дверь? — В спальню.
— Ну так и пошли в спальню.
— Ты знаешь, там такой беспорядок: я как раз отдыхал.
— Подумаешь, беспорядок! В ее голосе сквозит наивно-вызывающая интонация, которая, конечно же, не ускользнет от "него". С невыносимым чванством "он" шипит: "- Эта явно ко мне".
Флавия открывает дверь. В спальне зашторено окно и горит свет. Со вчерашнего дня здесь никто не убирал. Кровать разобрана, спертый воздух пропитан смешанным запахом сна и табачного дыма. Флавия оглядывается и снова хихикает: — Да тут совсем пусто. Только кровать и стул. Я на кровати, а ты на стуле. Или наоборот.
Не говоря ни слова, подхожу к окну и дергаю сначала за шнур занавески, а потом соломенной шторки. Окно, выходящее на север, заполняется ярким косым светом.
— Не люблю, когда много мебели, — объясняю я. — Да и вообще это жилище временное.
— Как это — временное? — Я проживу здесь год, не больше. Потом вернусь к жене.