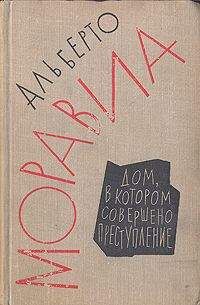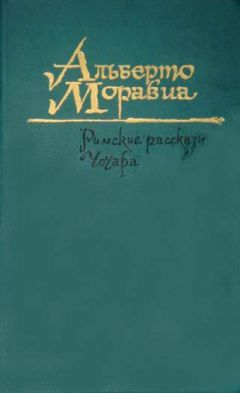— Король Федерикус? Пра-авильно. Тебя зовут Федерико, а "его" Федерикус. А почему король? Наверное, есть какаято причина? Может, потому что "он" такой… королевский? В любом случае похабник, по-твоему, "он", а не ты. Тоже верно. И главное — очень удобно. Я, например, не провожу никакой разницы между мной и "ею". Если я потаскушка, то и "она" потаскушка, и наоборот. Само собой разумеется, я не называю "ее" никаким именем. Тем более что мое имя звучит одинаково и по-итальянски и по-латыни — Флавия.
— Королева.
— Какая еще королева? — Королева Флавия.
— Ха-ха-ха, точно, а я об этом и не подумала: король Федерикус и королева Флавия. Два венценосца, повелителя, две коронованные особы: король и королева. Последний король и последняя королева: Федерикус и Флавия. Жили-были король с королевой… Ха-ха-ха, чудесная сказочка! Согнувшись пополам, Флавия держится за живот от смеха. Тут на меня снова нашло. Происходит то, чего я так боялся. Моя отстраненность в отношениях между "ним" и Флавией делает свое дело: сознавая всю безнадежность и гибельность этой затеи, я в одно мгновенье сливаюсь с "ним". Я отпускаю поводья и предоставляю "ему" полную свободу действий. И уж "он"-то пользуется этой свободой, да еще как! Сорвавшись с места, я нагишом набрасываюсь на Флавию. "Он" упруго раскачивается во главе атаки, как слетевшая троллейбусная антенна. Я хватаю Флавию не за ладони и не за руки, а прямо там, где под платьем таится недавно нареченная мной королева Флавия. На миг я сжимаю сквозь тонкую ткань "его" подлинную собеседницу. Но только на миг. В следующую секунду меня оглушает мощная пощечина. Пытаюсь схватить поразившую меня руку — и получаю еще одну оплеуху. Флавия спасается бегством: стройная, белокожая, веснушчатая нимфа, преследуемая уродливым, мускулисто-членоподобным сатиром. Кажется, вот-вот ухвачу ее, но юркая Флавия успевает в последний момент увернуться. Тем временем отнюдь не взволнованным, а даже неприятно-рассудительным тоном "он" требует: "- Совсем, что ли, спятил, отпусти меня, говорят тебе — отпусти!" Да, спятил. Мое помешательство заключается в том, что я безоговорочно сдался на милость собственной закоснелой ущербности. Тяжело дыша, мы с Флавией стоим друг против друга; нас разделяет кровать, ни дать ни взять сцена из комедии тридцатых годов, правда, с одной, мягко говоря, примечательной деталью: между нами, все так же торчком, завис "он". Флавия зорко ловит каждое мое движение. Затем, подавшись вперед, выкрикивает: — А знаешь, зачем я к тебе пришла? — Зачем? — Сказать, что мы не намерены доверять тебе режиссуру нашего фильма. И знаешь почему? Потому что мой отец и Протти решили, что режиссером будет Маурицио.
Огорошенный этим известием, я мгновенно очухиваюсь: — Почему нельзя было сообщить об этом до собрания? — При чем здесь собрание? На собрании речь шла не о режиссуре, а о сценарии. Режиссером ты не будешь, но сценаристом останешься.
— Все равно вы должны были сказать об этом раньше.
— Мы еще ничего не знали. Решение принято только вчера.
— А сегодня ты явилась сообщить мне о нем? — Совершенно верно. Я буду помощником режиссера. Самому Маурицио как-то не с руки вводить тебя в курс дела, вот я и вызвалась. А теперь пусти меня. Тронешь — закричу.
У меня нет ни малейшего желания трогать ее. С "ним" я уже совладал, да и сам "он" враз приспособился к новой ситуации, поникнув вяло и безвольно. Стою понурившись, такой, каков я на самом деле: голый, смешной, отчаявшийся. Слышу голос Флавии: "Пока" и не поднимаю головы. Вскоре входная дверь потихоньку закрывается. Э-хе-хе! Опускаю глаза и смотрю на "него": маленький, съежившийся, дряблый, морщинистый комочек. Вздыхаю и говорю "ему": "- Теперь остается разыграть последнюю карту — Мафальду. Все будет зависеть от тебя, только от тебя".
В этот момент раздается звонок в дверь.
Иду открывать. И от неожиданности чуть не отскакиваю назад — Маурицио. В черных очках и черных ботинках, в белой рубашке и белом пиджаке. Манеры все те же: проходит мимо без единого слова, уверенно направляется к кабинету, засунув руки в карманы. В замешательстве следую за ним: а что, если он ждал Флавию на улице: а что, если Маурицио знает, как я, точнее, "он" набросился на Флавию? Меня пронизывает жгучее, щемящее чувство вины. Со страхом предвижу, что Маурицио скажет сейчас несколько жестких, беспощадных слов, какие умеют говорить только "возвышенцы", и от стыда я готов буду хоть сквозь землю провалиться. Однако мои опасения напрасны. Маурицио лишь спрашивает с рассеянным видом: — Флавия давно ушла? И не краснеет! Будто и не ждал внизу Флавию; будто и ведать не ведает, что "он" напустил меня на Флавию. Зачем ему врать? Наверное, для того, чтобы заманить этого пенька в очередную ловушку. Решаю выбить у него почву из-под ног, притворившись, что Флавии вовсе здесь не было. С нарочитым удивлением отвечаю: — А что, она собиралась зайти? Молчит. И бровью не повел. А я еще хотел удовольствие получить: как же, дождешься от него. Он плюхается в кресло и закуривает. Ну а я… я по-прежнему намерен выбить у него почву из-под ног. Моя уловка вдруг представляется мне удачной и плодовитой. Соврав насчет Флавии, я прикинулся, будто не знаю о том, что могу больше не рассчитывать на режиссуру. Таким образом, мы с Маурицио меняемся местами.
Слабое, но все же утешение. Теперь, как в басне про лису и виноград, я получаю возможность с гордым негодованием отказаться от того, в чем мне и так отказано. Я сделаю вид, что возмущен тем, как со мной обошлись во Фреджене; выкрикну ему в лицо, что по горло сыт им, Флавией и всеми остальными, и объявлю, что более не желаю работать с ним над сценарием. Отличный ход! Ломая эту комедию, я, разумеется, заставлю Маурицио подыгрывать мне. Ведь Маурицио прекрасно знает, что Флавия была у меня; по той простой причине, что сам же ее и подослал. Знает он и то, что после ее слов я распрощался с режиссурой, ибо сам велел об этом сообщить. Пусть ненадолго, но мы разыграем спектакль, в котором он примет мой отказ от того, в чем заранее мне отказал. Присев за письменный стол и развернувшись в сторону Маурицио, я говорю: — Прежде чем являться, надо звонить.
— Зачем? — Затем, что меня могло и не быть. Или у меня мог ктото быть.
— В таком случае достаточно было просто не открывать.
— Ну допустим, что после случившегося во Фреджене у меня отпало всякое желание видеть тебя.
— Так что, мне уйти? — Пришел — так оставайся. Поговорим начистоту.
Маурицио не отвечает. Я встаю и начинаю расхаживать по кабинету, произнося следующую обличительную речь: — Раскроем карты, сбросим маски, поговорим как мужчина с мужчиной. Так вот, должен тебе сказать, что позавчера на собрании ты вел себя безобразно. Я npoшу представить меня группе, прошу без всякой задней мысли, так сказать, в идейном порыве. В доказательство искренности моих революционных чувств я вношу целых пять миллионов лир, один к одному — сумма нешуточная, а по моим доходам так и вовсе огромная. Ты же вместо благодарности заманиваешь меня в ловушку. Дабы усыпить мою бдительность, заверяешь слащавым тоном, что это будет дискуссия на высоком культурном уровне, что меня ожидают с интересом и доброжелательностью, что мой взнос в пять миллионов оценен по достоинству. Доверчиво, со спокойной душой и уверенностью в том, что буду участвовать в откровенном, полезном и плодотворном разговоре, в равноправной и всеобъемлющей встрече двух поколений, я отправляюсь с тобой во Фреджене, на виллу Флавии. Но едва я вхожу в гостиную, отведенную для собрания, я понимаю, что предстал перед смехотворным судилищем, эдакой карикатурной попыткой устроить надо мной нравственный самосуд. Присяжные заседатели — это вся ваша группа, роль прокурора взял на себя ты, а Флавия что-то вроде судебного секретаря. Я уже не говорю о нелепом судебном ритуале, расписанном в мельчайших подробностях, вплоть до трехцветного светофора и заготовленных аплодисментов, словно идейной дискуссией можно управлять, как уличным движением. И вот, беззащитный и ничего не подозревающий, я оказался перед стаей волков, да что волков — гиен, готовых не моргнув глазом разорвать меня на куски. Ну а ты? Мало того, что вероломно заманил меня в засаду, так еще и встал во главе сей доблестной операции. Скинув с себя добродушную личину друга, ты обнажаешь истинное лицо — лицо врага. Ты во всеуслышание называешь меня предателем, доносчиком, контрреволюционным элементом и я не знаю кем еще. Ты даже открыто высмеиваешь мой взнос в пять миллионов лир. После твоей обвинительной речи начинается судебный процесс. Процесс? Скорее короткая расправа. Мое выступление принимают в штыки. Твое выступление, а также выступление Флавии и других членов группы встречают безоговорочными аплодисментами. И все это под уморительную светопляску вашего полицейского мигальника: курам на смех! Желторотые юнцы, еще вчера носившие короткие штанишки тявкают на меня, поносят и обвиняют! Размалеванные куклы — да их место на пляжных конкурсах красоты — швыряют мне в лицо горсти монет, демонстрируя тем самым, что я Иуда, продажная тварь. Ни больше ни меньше: продажная тварь! Все это было бы смешно, если бы не было так печально. Разумеется, только продажная тварь способна выбросить на ветер пять миллионов, оторвав их от собственной семьи. А заработать пять миллионов на таком фильме, как "Экспроприация", я и не мечтал. Ну да ладно. Наконец, кульминация судилища. Старым, испытанным способом перекрестного запугивания меня вынуждают наговорить на себя сорок бочек арестантов. После этого как ни в чем не бывало ты объявляешь собрание закрытым, под предлогом того, что сломался светофор. Тем самым ты лишний раз доказываешь, что без, скажем так, уличной дисциплины группа не в состоянии проводить свои пресловутые дискуссии. Что и говорить: собраньице хоть куда! Подобрали подходящую кандидатуру остолопа на роль идейного разини-прохожего, которого следует размазать по асфальту политических маневров, — и ну давить его гусеницами ваших непробиваемо-революционных танков. Но и это еще не все! Под занавес, набравшись наглости, ты внушаешь присутствующим, что дискуссия прошла распрекрасно, как для вас, групповичков, так и для меня, что теперь у нас-де все пойдет как по маслу и что мы с тобой — друзья не разлей вода — душа в душу будем дальше кропать сценарий. Ну уж нет! Тысячу раз нет! Стоп машина! Хватит с меня этих фокусов! Сначала смешали с грязью, а потом справляются: не испачкался ли? Да еще и успокаиваю: все будет в лучшем виде! Хотя, конечно, когда ты по уши увяз в дерьме, когда тебя растерли в порошок, о чем еще волноваться? Все шито-крыто! Ловко придумано. Только со мной этот номер не пройдет! С негодованием вздергиваю плечами и останавливаюсь напротив Маурицио. Он сидит спокойно и неподвижно. Даже глаз не поднимает: ренессансный паж, покуривающий сигарету с фильтром. В конце концов он спрашивает: — Ну и что ты собираешь делать? — Послать все это куда подальше.