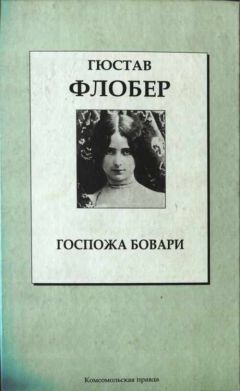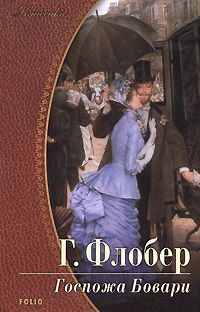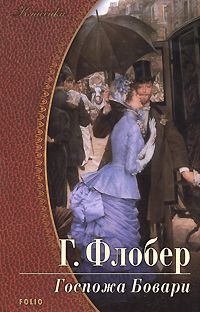Когда часы показывали четверть восьмого, она направлялась к гостинице «Золотой Лев», где Артемиза, зевая, отпирала ей дверь. Служанка выгребала из-под золы уголья для барыни. Эмма ждала на кухне, одна. Время от времени она выходила на двор. Ивер неторопливо запрягал лошадей, выслушивая тетку Лефрансуа, которая, просунув в форточку голову в коленкоровом чепце, давала ему столько поручений и сопровождала их столькими наставлениями, что всякий другой давно сбился бы с толку. Эмма постукивала подошвами ботинок о плиты двора.
Наконец, съев суп, облачившись в род халата из грубой шерсти, раскурив трубку и взяв в руку кнут, Ивер удобно усаживался на козлах.
«Ласточка» выезжала мелкой рысцой и на протяжении первых трех четвертей мили то и дело останавливалась, забирая путешественников, ожидавших ее у дороги перед калитками дворов. Тех, что предупредили с вечера, приходилось дожидаться; иные еще не поднимались с постели; Ивер звал, кричал, ругался, потом слезал с козел и начинал колотить в ворота. Ветер свистел в щелях форточек.
Понемногу четыре скамьи заполнялись, карета катилась, мелькали рядами яблони, и дорога между двумя рвами с желтоватой водой бежала, суживаясь, к горизонту.
Эмма знала ее наизусть: знала, что за лугом будет столб, потом вяз, рига и сторожка. Время от времени, чтобы доставить себе удовольствие неожиданности, она закрывала глаза, но ей не удавалось потерять отчетливое чувство расстояния, которое оставалось проехать. Наконец кирпичные здания встречались чаще, колеса катились по гулкой почве. «Ласточка» скользила среди садов, в просветах листвы можно было заметить статуи, раковины, подстриженные тисовые деревья, качели. И вдруг открывался город.
Спускаясь амфитеатром и утопая в тумане, он смутно ширился за рекой с ее мостами. За ним поля поднимались однообразно в гору до неопределенно далекой черты, где начиналось бледное небо. С этой высоты весь пейзаж казался недвижным, как картина; суда на якоре скучивались в одном углу; река описывала дугу у подножия зеленых холмов, а продолговатые острова казались на воде огромными заснувшими черными рыбами. Фабричные трубы выкидывали черно-коричневые султаны, расплывавшиеся на конце. Было слышно хриплое дыхание литейных заводов вместе с ясным перезвоном церквей, прорезавших мглу остриями колоколен. Голые деревья бульваров казались фиолетовым кустарником среди домов, а влажные от дождя крыши блистали на разной высоте, соответственно уровню кварталов. Иногда порыв ветра гнал облака к возвышенности Святой Екатерины, словно воздушные волны, безмолвно разбивавшиеся о береговой утес.
Голова кружилась у Эммы от этого скопления человеческих существований и сердце начинало усиленно биться, словно она вдыхала одновременно испарения всех угадываемых ею страстей, исходивших от ста двадцати тысяч жизней, что трепетали там, внизу. Любовь ее росла перед этим пространством и наполнялась смятением от доносившихся к ней неясных ропотов. Она изливала ее на площади, на бульвары, на улицы, и старинный нормандский город лежал перед ее взором, подобный какой-то необъятной столице, подобный Вавилону, и она въезжала в этот Вавилон. Опершись обеими руками об окошко почтовой кареты, она вдыхала свежий ветер; тройка скакала, колеса визжали по камням на грязной мостовой, дилижанс колыхался, Ивер покрикивал издали на встречные повозки, меж тем как горожане, проведшие ночь в лесу Гильом, спокойно спускались с холма в маленьких семейных повозках.
У заставы была остановка. Эмма отвязывала деревянные подошвы, переменяла перчатки, поправляла шаль и, проехав шагов двадцать дальше, выходила из «Ласточки».
Город пробуждался. Приказчики, в низких шапочках, вытирали окна магазинов; женщины, нагруженные корзинами, звонко выкрикивали на перекрестках улиц. Эмма шла, потупив глаза, держась ближе к стенам и улыбаясь от удовольствия под черной опущенной вуалью.
Боясь, чтобы ее не узнали, она обыкновенно не решалась идти кратчайшей дорогой. Колесила по темным переулкам и, обливаясь потом, добиралась до нижнего конца Национальной улицы, близ находящегося там фонтана. Это квартал театров, кабачков и публичных женщин. Нередко ее обгоняла телега, на которой везли дрожащие декорации. Гарсоны, в передниках, усыпали песком тротуары между зелеными деревцами. Стоял запах абсента, сигар и устриц.
Она сворачивала на другую улицу и узнавала его по вьющимся волосам, выбивавшимся из-под шляпы.
Леон шел дальше по тротуару. Она шла за ним до гостиницы. Он поднимался по лестнице, отпирал дверь, входил… Как они прижимались друг к другу!
За поцелуями сыпались слова. Сообщались все горести истекшей недели, предчувствия, тревоги из-за писем; но теперь все было забыто, они глядели друг другу в глаза, смеялись сладострастным смехом, называли друг друга нежными именами.
Кровать красного дерева, огромная, имела вид ладьи. Складки красного шелкового полога нависали низко над широким изголовьем; и ничто в мире не могло быть прелестнее ее черноволосой головки и белой кожи на фоне этого пурпура, когда стыдливым жестом она прижимала к груди обнаженные руки, закрывая ладонями лицо.
Теплая комната, с заглушающим шаги ковром, забавными украшениями и мягким светом, казалась как нельзя лучше приспособленной для любовных интимностей. Стержни гардин кончались стрелами, медные розетки и шары у каминной решетки вдруг вспыхивали, когда в этот уют заглядывало солнце. На камине, между канделябрами, лежали две большие розовые раковины, в которых, если их приложишь к уху, слышится шум моря.
Как любили они эту милую комнату, веселую, несмотря на ее немного полинявшую пышность! Мебель находили они всякий раз на старом месте, а под каминными часами порой и шпильки, забытые Эммой в прошлый четверг. Они завтракали у огня на круглом столике, выложенном палисандровым деревом. Эмма резала мясо, накладывала ему куски на тарелку, шаля и ласкаясь; смеялась звонким, вызывающим смехом, когда пена шампанского проливалась из тонкого бокала на ее пальцы, унизанные перстнями. Они были так поглощены чувством взаимного обладания, что воображали себя в собственном доме, где они проживут до самой смерти вечно юными супругами. Они говорили: «наша» комната, «наш» ковер, «наши» кресла, и она говорила даже: «наши» туфли про подарок Леона — каприз, пришедший ей однажды в голову. То были розовые атласные туфельки с лебяжьей опушкой. Когда она садилась к нему на колени, ее нога висела, не доставая до полу, и грациозный башмачок, без задка, держался на одних пальцах босой ножки.
Леон впервые узнавал невыразимую прелесть женского изящества. Ему были новы эта грация речи, этот оттенок скромной сдержанности в одежде, эти позы прикорнувшей голубки. Он восхищался возвышенными порывами ее души и кружевами ее юбок. Разве, впрочем, она не была настоящая «светская женщина», и к тому же замужняя? — разве то не была настоящая «связь»?
Переменчивостью нрава и настроения — то мечтательная и таинственная, то веселая и говорливая, то подолгу безмолвная, то вспыльчивая, то равнодушная, — она непрерывно вызывала в нем тысячу желаний, пробуждала смутные влечения и воспоминания. Она была любовница всех романов, героиня всех драм, неопределенная «Она» всех лирических поэм. На ее плечах он улавливал янтарный колорит «купающейся одалиски»; у нее была длинная талия, как у средневековых дам, владетельниц феодальных замков; она походила и на «бледную женщину из Барселоны», но прежде всего она была ангел!
Когда он глядел на нее, ему казалось, что душа его, стремясь к ней, окружает волнами ее голову и, послушная сладостному притяжению, изливается в белизну ее груди.
Он падал к ее ногам и, облокотясь о ее колено, смотрел на нее с улыбкою снизу вверх.
Она наклонялась к нему и говорила задыхаясь, как опьяненная:
— О, не шевелись, не говори! Гляди на меня! Из глаз твоих струится какая-то сладость, она вливает в меня такое счастье!
Называла его дитятею:
— Дитя, любишь ли ты меня? — и, не дожидаясь ответа, стремительно и страстно тянулась к нему губами.
На часах был изображен бронзовый купидон, который, жеманясь, поддерживал ручками золоченую гирлянду. Они часто над ним смеялись; но в минуты разлуки все приобретало в их глазах необычайную серьезность.
Стоя недвижно друг перед другом, они повторяли:
— До четверга!.. До четверга!..
Она вдруг охватывала обеими руками его голову, быстро целовала в лоб и со словами: «Прощай!» — выбегала на лестницу.
Она шла на Театральную улицу, к парикмахеру, чтобы поправить свою прическу. Спускался вечер; в туалетной зале зажигали газ.
Она слышала звонок из театра, собиравший актеров на сцену, видела, как мимо проходили мужчины с бледными лицами и женщины в полинялых платьях, исчезавшие в дверях аптекарского подъезда.