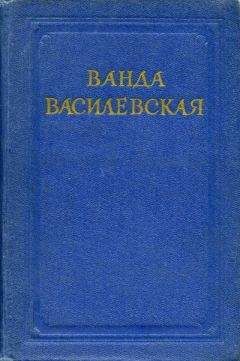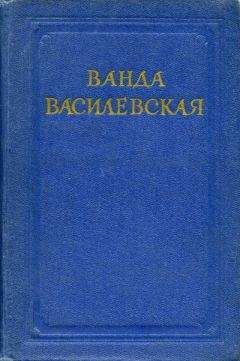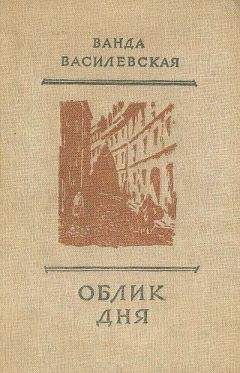«Умереть, умереть!» — молилась она в пространство. За холодной завесой зимнего неба не было бога, его не было уже давно, если он мог спокойно смотреть на это, если он не подал знака предостережения в тот ужасный день, когда она венчалась с осадником во влукском костеле, когда она стала женой Хожиняка, — она, Ядвига, сестра Стефека, она, которой Петр оставил заветный сверток. Бог не подал знака, не предостерег, а заставил рассчитывать на десять лет, непонятных, ужасных десять лет Петровой тюрьмы.
И вот эти десять лет оказались сном, а Хожиняк оказался явью, такой явью, от которой нельзя уже избавиться.
Она сидела за столом, запустив пальцы в волосы. И вот уже нет страха — все тело окаменело в ледяном холоде и ничего больше не чувствует. Опять обычный день, обычная ночь. Ничто не происходит, ничего не может случиться. День за днем, день за днем, серая, пустая жизнь. Там, в деревне, все будет кипеть, расти, изменяться. Но ее все это не касается. Ведь она сама решила свою судьбу.
Кошка, дремлющая у печки, поднялась и потянулась, подошла к столу и потерлась о ноги Ядвиги. Она нагнулась и погладила мягкую, пушистую шерсть. Все-таки есть возле какое-то живое существо.
И тут она подумала о том, другом существе, о котором никогда не хотела думать. Почувствовала движение внутри своего тела. Оно шевельнулось, неизвестное существо, дитя Хожиняка. Когда это будет? Она сосчитала по пальцам. Ну, да. Во все можно поверить, только не в этого ребенка. Она знала, что он есть, и все же никогда не принимала его в расчет. Не могла представить себе, что наступит день, — и она увидит его, он начнет жить, его придется кормить, брать на руки, шить для него распашонки. И как можно себе представить то, что будет через четыре месяца?
Как всегда после приступов страха, на нее напала отупляющая сонливость. Но и страх не исчезал, он лишь притаился и покалывал тонкой, мучительной болью. Ядвига встала. Нужно было идти спать — так устроена жизнь, что человек встает, ложится, живет, независимо от того, что и как, независимо от всего, что происходит. Она подняла руки, чтобы вынуть шпильки из головы, и застыла в этой позе: нет, теперь уже это была не иллюзия, не биение ее сердца. Шаги. Шаги многих людей. Полными ужаса глазами она смотрела на дверь. В нее крепко и решительно постучали. Рот Ядвиги открылся, словно в крике.
Дверь отворилась. Гончар, милиционер, лицо которого ей было откуда-то знакомо, еще кто-то неизвестный и Петр.
Сразу стало легче: есть же Петр! Но сердце продолжало невыносимо колотиться, било в набат. Кровь молоточками стучала в висках.
— Ядвига Хожиняк? — спросил милиционер, и Ядвига кивнула головой, хотя сперва ей показалось, что речь идет не о ней. Имя ее, но фамилия?..
Петр стоял у дверей и угрюмо смотрел на нее. Да, это была Ядвига. Темные круги под глазами, отекшее лицо беременной женщины. Жена осадника Хожиняка — та самая Ядвиня, о которой он думал в тюрьме долгими тяжкими днями. Какими словами, словами, не могущими ни до кого дойти, разговаривал он в тюремной камере с печальной девушкой, оставшейся в далеких Ольшинках! В те дни шум озера, и шелест тростника над рекой, и запах леса и чебреца на песчаном холме неразрывно сливались с образом Ядвиги, с хмурым взглядом ее темных глаз, с длинными косами, с тем, что было между ними — такое важное и никогда не высказанное. Эта та самая Ядвиня…
Ей отдал он на сохранение бумаги, самые важные бумаги. Ей одной доверился в момент опасности. Десять лет… Как это ему ни разу не пришло в голову, что годы могут иметь значение? А оказалось, что имеют. Да еще какое!
В нем поднимался гнев — против самого себя и против нее, стоящей сейчас в свете закоптевшей лампочки здесь, в доме осадника. За то, что поверил, что тосковал, что в тюремные ночи улыбались ему ее губы.
— Где ваш муж?
Ядвига шевельнула губами, от которых отхлынула кровь. В мозгу ее, как молния, промелькнула мысль, что он пришел домой и его поймали. Но ведь он давным-давно не подавал признаков жизни, с тех самых пор как пошел к венгерской границе.
— Собирайте вещи, — сухо сказал милиционер. Ядвига не поняла. Минуя взглядом лицо Петра, она шагнула к Гончару. Он все разъяснил. Петр слышал формулировку, юридическую сухую формулировку. Ядвига издала пронзительный крик. Вытянув вперед руки, она сделала шаг к Петру. Губы у нее дрожали, глаза округлились от ужаса.
— Петрусь!
Впервые с ее губ сорвалось это ласкательное имя. Из глубины души она взывала к Петру. Не к тому Петру, которого знала, с которым говорила, который молчаливо и хмуро стоял сейчас у дверей. Нет, к Петру ее снов, к Петру, о котором говорила соловьиная песня, к Петру, именем которого шумело озеро, к Петру всех ее одиноких, отравленных дней, когда не оставалось ничего радостного на земле, — только один он.
И Петр услышал призыв — он дошел до самых глубин его души. Призыв не этой Ядвиги, которая ушла, изменила, которая стояла перед ним, а той печальной девушки, которая приходила в тюремную камеру с запахом травы, шепотом озерной волны, бьющейся о берег, с зеленью, с ароматом, с грустью полей над рекой.
Его сердце затопила волна жалости, сочувствия. Он увидел ее — одинокую, покинутую, беспомощную. Взгляд его встретился с глазами Гончара. И он испугался самого себя.
Кто она? Осадничья жена. Она смогла забыть о нем, о Петре, о Сашке, умершем в тюрьме, о тяжких, трудных делах деревни, в которой воспитывалась и росла, смогла перейти во вражеский лагерь. Ведь еще недавно, они прекрасно знали это, — Хожиняк приходил сюда. И Петр был уверен, что она не отказывала ему в помощи. Заходили и другие, и как знать, что тут было? Она сама этого хотела, сама выбрала. А он за взгляд темных глаз, за умоляющий возглас хотел изменить всем, кто боролся, погибал, тем, кто теперь с трудом и напряжением всех сил распутывал здесь на месте раскинутую врагами сеть. Она ведь была из лагеря врагов.
Он нагнулся и помог ей связать узел. Он видел, как женщина прикусила губы, как лицо ее потемнело. Теперь она уже не позовет, не попросит, теперь она в молчании принимает свою судьбу. Даже руки не дрожат уже, она насыпает в мешочек крупу, берет с полки буханку хлеба. Спокойно, обдуманно, словно собирается в местечко по какому-то повседневному делу.
Ей помогли собрать вещи. Она шла с помертвевшим лицом, с помертвевшим лицом села на подводу. Когда лошади тронулись, она даже не оглянулась ни на дом, ни на деревню.
Гончар подошел к Петру:
— Ну, что поделать, брат…
Петр, не оборачиваясь, молча пожал ему руку и, глядя, как подвода удаляется к станции, растворяется в ночном мраке, — вдруг почувствовал в себе сердце мужественное и непреклонное. Он еще раз ощутил суровость переживаемых дней, которые и не могли быть другими.
Подул ветер с моря, и понеслись буйные воды в далекие страны, зашелестели, зашумели, заговорили тысячами ручьев, белой гривой запенилась река, утонули в мутных волнах прибрежные камыши. Еще не пробились из земли цветы, листья еще не решались прорвать свои коричневые покровы, но все уже дышало весной, и ветры, теплые и порывистые, били в лицо радостными крыльями, ускоряя биение сердца и пробуждая в нем беспричинную радость. Уже ночи оглашались птичьим криком, высоко-высоко, под самым небом, тянулись вереницы из теплых краев, из далеких сказочных стран, а на разливающиеся реки слетались утки, и далеко разносился птичий гомон. По всем речным рукавам, по озеру, по тихим заводям двинулись лодки, челны, дубы. Погружались в воду сети, мелькали бросаемые умелой рукой остроги, плескались наставки. Деревня ловила рыбу — теперь уже для себя, не для инженера Карвовского, не за обещанную, но так и не проведенную комасацию. Деревня ловила для себя, впервые в жизни — только для себя. И весенний ветер, высокие весенние воды смыли с сердца жадность и злобу. И эта весна казалась людям иной, отличной от тех весен, которые они переживали до сих пор. Она была буйная и шумная, как буйные и шумные воды.
Хмелянчука и след простыл. Притих испуганный поп. А бабы объяснили теперь все по-своему.
— Хитрюги, — вздыхала Мультынючиха. — Хитрюги, ишь, как на нас заработать хотели… Рассказывала мне Малашка, вот которая ходит к попадье помогать по дому, что в кладовой у них всего полным-полно. Масло все провоняло; чего не могли сожрать, то попадья перетопила, — так без малого бочонок вышел. А ведь как плакались! Говорили, что с голоду подыхают.
— Там и ваше масло провоняло, и его там немало, — язвительно заметила Параска. — Частенько вы к попадье бегали.
Но Мультынючиха не обиделась.
— Что ж теперь делать, милая ты моя? Бегать-то я бегала, сдавалось мне, что их обижают, так говорили… Глуп был человек, ничего не скажешь. Теперь уж меня не надуют. А еще поп, духовное лицо! Малашка говорит, у него там золотые деньги есть, видела она раз, как он их перебирал, считал, что ли… Подумать только, золотые деньги, а из нас гроши выжимал…