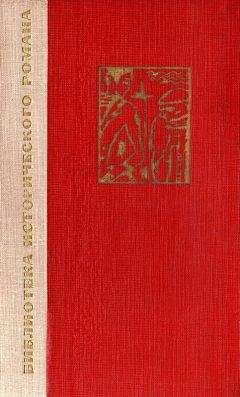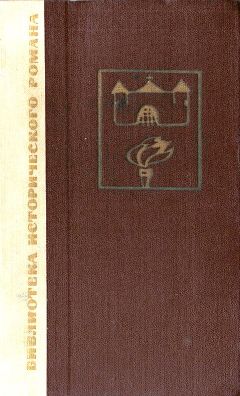— И вы говорите, что никто не двинулся с места, никто не поспешил разнять их, кроме дочери капитана Тьяго? — спросил капитан Мартин. — Ни монахи, ни алькальд? Гм! Плохо, очень плохо! Не хотел бы я оказаться в шкуре этого юноши. Никто из них не простит ему того, что он нагнал на них страху. Плохо, очень плохо, да!
— Вы так думаете? — с интересом спросил капитан Басилио.
— Я надеюсь, — сказал дон Филипо, переглянувшись с ним, — что город не отвернется от него. Мы должны помнить о том, что сделала тут для общего блага его семья и что делает сейчас он сам. А если горожане струсят и будут молчать, его друзья…
— Но, сеньоры, — перебил префект, — что можем сделать мы? Что может сделать город? Что бы ни случилось, монахи всегда правы.
— «Всегда» правы, потому что мы «всегда» признаем их правыми, — ответил дон Филипо, с раздражением подчеркивая слово «всегда». — Давайте хоть раз объявим правыми себя и посмотрим, что получится!
Префект почесал затылок и, глядя в потолок, уныло ответил:
— Эх, горячая вы голова! Будто не знаете, в какой стране мы живем, не знаете своих сограждан. Монахи богаты и сплочены, а мы разобщены и бедны. Ну-ка, попробуйте выступить на его защиту и увидите, как вас разделают.
— Да, — с горечью воскликнул дон Филипо, — это может случиться, если думать так, если не делать различия между страхом и благоразумием. Возможное зло волнует нас больше, чем необходимое для нас благо; мы сразу поддаемся страху и теряем веру в свои силы; каждый думает только о себе, и никто — о других; поэтому мы слабы.
— Ладно, попробуйте думать о других больше, чем о себе, и увидите, как вас схватят за глотку! Знаете испанскую пословицу: «Истинное милосердие начинается с заботы о самом себе».
— Лучше сказать, — запальчиво возразил лейтенант-майор, — что истинная трусость начинается с эгоизма и кончается позором! Сейчас же пойду и подам алькальду прошение об отставке; с меня довольно, не желаю быть смешной и к тому же беспомощной куклой… Прощайте!
Женщины рассуждали по-другому.
— Ох, — вздыхала одна из них, обладательница добродушной физиономии, — молодежь всегда опрометчива. Была бы жива его добрая матушка, что бы она сказала? Ох, боже мой! Подумать только, это могло бы случиться с моим сыном — у него ведь тоже горячая кровь… Господи Иисусе! Хорошо, что его матери нет в живых. Меня бы хватил удар.
— А меня нет, — возразила другая. — Я бы не горевала, если бы это случилось с моими обоими сыновьями.
— Что вы говорите, капитанша Мария? — воскликнула первая, всплеснув руками.
— Мне нравится, когда сыновья чтят память отцов, капитанша Тинай. Что сказали бы вы, будь вы вдовой, если бы услышали подобные слова о своем супруге, а ваш сын Антонио опустил бы при этом голову и смолчал?
— Я отказала бы ему в благословении! — воскликнула сестра Руфа из братства терциариев. — Но…
— Отказать в благословении? Никогда! — возразила добрая капитанша Тинай. — Мать не должна так говорить! Но не знаю, как поступила бы я, не знаю… Думаю, что просто умерла бы, а его… Нет! Боже мой! Но я прогнала б его с глаз долой, впрочем… А как думаете вы, капитанша Мария?
— Во всяком случае, — заметила сестра Руфа, — нельзя забывать, что поднять руку на священную особу — это большой грех.
— Память отцов еще более священна! — возразила капитанша Мария. — Никто, даже сам римский папа, а тем более отец Дамасо, не вправе оскорблять их святую память!
— Что правда, то правда! — пробормотала капитанша Тинай, дивясь мудрости обеих. — Где это вы научились так умно рассуждать?
— А как же быть с отлучением и проклятием? — сказала Руфа. — Значат ли что-нибудь почести и доброе имя в этой жизни, если мы обрекаем себя на вечное проклятие на том свете? Все так мимолетно, однако отлучение… Оскорбить слугу господа!.. Этого никто ему не простит, никто, кроме папы!
— Его простит бог, который велит почитать отца с матерью; бог от него не отвернется! И я вам говорю: если этот юноша придет в мой дом, я его приму и найду для него доброе слово. Если бы у меня была дочь, я хотела бы иметь его зятем: хороший сын всегда будет хорошим мужем и добрым отцом, поверьте мне, сестра Руфа!
— Нет, я с этим не согласна; говорите, что хотите. Но пусть вы и правы, я всегда буду больше верить священнику. Прежде всего надо спасать свою собственную душу. А как думаете вы, капитанша Тинай?
— Ах, сама не знаю! Вы обе правы, и священник прав, но ведь бог тоже, наверное, прав! Я ничего не знаю, я совсем глупая… Вот что я сделаю: скажу-ка своему сыну чтобы он бросил ученье! Говорят, что ученые кончают жизнь на виселице. Пресвятая Мария! Ведь сын-то мой хочет ехать в Европу!
— Как же вы намерены поступить?
— Прикажу никуда от меня не отлучаться; зачем ему наука? Не сегодня-завтра все мы умрем, мудрецы умирают равно как и невежды… Главное, прожить жизнь тихо-мирно.
И добрая женщина вздохнула, подняв глаза к небу.
— А я, — сурово произнесла капитанша Мария, — если бы я была так богата, как вы, то разрешила бы своим сыновьям путешествовать: они молоды и должны когда-нибудь стать людьми… Самой-то мне недолго осталось жить, увижусь с ними в иной жизни… Дети должны стараться стать чем-то большим, чем их родители, а мы, опекая их, не даем им мужать.
— Ах, какие у вас странные мысли! — с ужасом воскликнула капитанша Тинай, молитвенно складывая руки. — Словно вы не родили в муках ваших близнецов!
— Именно потому, что я родила их в муках, вырастила и воспитала, несмотря на нашу бедность, я не хочу, чтобы после стольких стараний, которые так дорого мне обошлись, они остались бы жалкими недоучками…
— Мне кажется, вы не любите своих детей так, как велит бог! — сказала назидательным тоном сестра Руфа.
— Простите, каждая мать любит своих детей по-своему: одни любят их для себя, другие — следуя чувству долга, а третьи — ради самих детей. Я принадлежу к последним; так учил меня мой муж.
— Все ваши мысли, капитанша Мария, — заметила Руфа нравоучительно, — не очень благочестивы; вам бы стать сестрой святого Франциска, святой Риты или святой Клары!
— Сестра Руфа, когда я стану достойной сестрой людям, я постараюсь стать сестрой святым, — ответила та с улыбкой.
Чтобы закончить эту главу о пересудах и хоть немного познакомить читателей с тем, что думали о случившемся простые крестьяне, мы пойдем на площадь, где под навесом беседуют некоторые из них, и найдем там нашего знакомого, того, что превозносит жизнь докторов.
— А больше всего жалко, — говорил он, — что школу теперь уже не достроят!
— Как?! Почему?! — с любопытством вопрошали окружающие.
— Не быть моему сыну доктором, придется ему быть извозчиком! Все, конец! Погибла школа!
— Кто сказал, что школа погибла? — спросил дюжий крестьянин со скуластым лицом и плоским черепом.
— Я! Нет больше школы! Белые отцы назвали дона Крисостомо «плибастером»[128].
Все недоуменно переглянулись. Это слово они слышали впервые.
— Ругательство, что ли, какое? — отважился наконец спросить скуластый крестьянин.
— Самое худшее слово из всех, какие один христианин может сказать другому!
— Хуже, чем «тарантадо»[129] и «сарагате»?[130]
— Ну, уж не хуже, чем «индеец», как бранится альферес.
Тот, чей сын должен был стать теперь извозчиком, помрачнел; другой почесал затылок и задумался.
— Наверно, это все равно что «бетелопора»[131], как бранится альфересова старуха! Хуже не придумаешь, разве что плюнуть на святые облатки с причастием.
— Нет, это еще страшней, чем плюнуть на святые облатки с причастием в страстной четверг, — мрачно ответил собеседник. — Вы знаете, что такое «испичосо»?[132] Достаточно так назвать человека, чтобы гражданские гвардейцы из Вилья-Абрилье загнали его к черту на рога или бросили в тюрьму; ну, а «плибастер» гораздо хуже. Телеграфист и писец говорят: «Если христианин, священник или испанец назовут словом «плибастер» другого христианина, — скажем, кого-нибудь из нас, — это все равно что прочитать над кем-нибудь из живых «сантусдеус» или отслужить по нем «реквимитернам»[133]. Если тебя хоть раз назовут «плибастер», можешь исповедоваться и платить долги, — нет тебе другого выхода, как только головой в петлю. Ты ведь понимаешь, телеграфист и писец — люди знающие: один разговаривает с проводами, а другой пером строчит да болтает по-испански — и ничем больше не занимается.
Всех охватил ужас.
— Пусть меня заставят носить башмаки и всю жизнь пить эту кобылью мочу, которую называют «пивом», если я хоть раз дам назвать себя «плибастером»! — поклялся один крестьянин. — Был бы я богат, как дон Крисостомо знал бы испанский язык, как он, да мог бы управляться с ножом и ложкой, чихал бы я на всех священников!