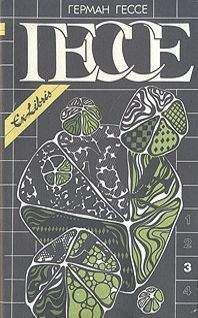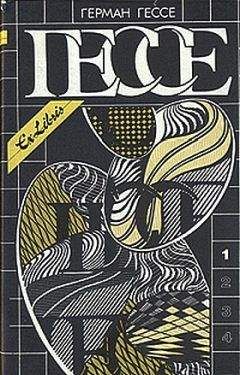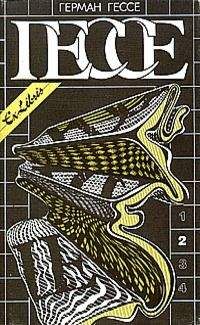Гольдмунд улыбнулся радостно и немного смущенно. Тихим, спокойным голосом, который бывал у него в часы просветлений, он сказал:
— Когда ты спас меня тогда от виселицы и мы ехали сюда, я спросил тебя о моей лошади Блессе, и ты мне все рассказал. Тогда я догадался, что ты, хотя едва различаешь лошадей, заботился о моем Блессе. Ты делал это из-за меня, и я был очень рад этому. Теперь я знаю, что это было действительно так и что ты действительно любишь меня. И я всегда любил тебя, Нарцисс, половину своей жизни я добивался твоей любви. Я знаю, что тоже нравлюсь тебе, но никогда не надеялся, что ты когда-нибудь скажешь мне об этом, ты, гордый человек. Теперь вот ты мне сказал, в тот момент, когда у меня нет больше ничего другого, когда странствия и свобода, мир и женщины — все позади. Я принимаю твое признание и благодарю тебя за него.
Мадонна-Лидия стояла в комнате и смотрела на них.
— Ты все время думаешь о смерти? — спросил Нарцисс.
— Да, я думаю о ней и о том, что вышло из моей жизни. Мальчиком, когда я был еще твоим учеником, у меня было желание стать таким же исполненным духовности человеком, как ты. Ты мне показал, что у меня нет призвания к этому. Тогда я бросился в другую сторону жизни — в чувства, и женщины помогали мне найти в этом наслаждение: они так сговорчивы и страстны. Но мне не хотелось бы говорить о них презрительно и о чувственных наслаждениях тоже, я ведь часто бывал очень счастлив. И я имел также счастье испытать одухотворение чувственности. Из этого возникает искусство. Но сейчас угасли оба пламени. У меня нет больше животного желания счастья, и оно не появилось бы, даже если бы женщины бегали за мной. И творить мне больше не хочется: я сделал достаточно фигур, дело не в количестве. Поэтому для меня пришло время умирать. Я не хочу противиться, мне даже любопытно.
— Почему любопытно? — спросил Нарцисс.
— Ну, пожалуй, это немного глупо. Но мне действительно любопытно. Речь не о потустороннем мире, Нарцисс, об этом я мало думаю и, откровенно говоря, уже не верю в него. Нет никакого потустороннего мира. Засохшее дерево мертво навсегда, замерзшая птица никогда не вернется к жизни, а тем более человек, если умрет. Какое-то время его будут помнить, когда его не станет, но и то недолго. Нет, смерть любопытна мне потому, что я все еще надеюсь или мечтаю оказаться на пути к моей матери. Я верю, что смерть — это большое счастье, да, счастье, такое же огромное, как счастье первой любви. Я не могу отделаться от мысли, что вместо смерти с косой придет моя мать, которая возьмет меня к себе и вернет в невинность бытия.
В одно из своих посещений, после того как Гольдмунд несколько дней ничего не говорил больше, Нарцисс застал его опять бодрым и разговорчивым.
— Патер Антон говорит, что у тебя, должно быть, часто бывают сильные боли. Как это тебе удается, Гольдмунд, так спокойно переносить их? Мне кажется, теперь ты примирился.
— Ты хочешь сказать: примирился с Богом? Нет, это не так. Я не хочу мириться с Ним. Он плохо устроил мир: такой мир нам нечего расхваливать, да ведь и Богу-то безразлично, восхваляю я его или нет. Плохо устроил Он мир. А с болью в груди я примирился, это верно. Раньше я плохо переносил боль, и хотя думал, что мне будет легко умирать, это было заблуждение. Когда она угрожала мне всерьез в ту ночь в тюрьме графа Генриха, все обнаружилось: я просто не мог умереть — я был еще слишком сильным и необузданным, им пришлось бы каждый сустав во мне убивать дважды. Сейчас — другое дело.
Разговор утомил его, голос стал слабеть. Нарцисс попросил его поберечь себя.
— Нет, — возразил Гольдмунд, — я хочу тебе рассказать. Раньше мне было стыдно признаться тебе. Ты посмеешься. Видишь ли, когда я, оседлав коня, ускакал отсюда, это было не совсем бесцельно. Прошел слух, что граф Генрих опять в наших краях и с ним его возлюбленная, Агнес. Знаю, тебе это кажется неважным, сейчас и мне это неважно. Но тогда эта весть прямо-таки обожгла меня, и я не думал ни о чем, кроме Агнес она была самой красивой женщиной, которую я знал и любил, я хотел увидеть ее опять, я хотел еще раз быть счастливым с ней. Я поехал и через неделю нашел ее. Вот тогда-то, в тот час, все изменилось во мне. Итак, я нашел Агнес, она была не менее красивой, я улучил случай показаться ей и поговорить. И представляешь, Нарцисс: она не хотела ничего больше знать обо мне! Я был для нее слишком стар, я не был больше красивым и веселым, она не обольщалась на мой счет. На этом мое путешествие, собственно, и закончилось. Но я поехал дальше, мне не хотелось возвращаться к вам таким разочарованным и смешным, и вот когда я так ехал, силы, и молодость, и благоразумие уже совсем оставили меня, поэтому я и упал с лошади в ручей, сломал ребра и остался лежать в воде. Вот тогда я впервые узнал настоящую боль. При падении я сразу почувствовал, как что-то сломалось у меня внутри, в груди, и это меня обрадовало, я с удовольствием почувствовал это, я был доволен. Я лежал в воде и понимал, что должен умереть, но теперь все было иначе, чем тогда, в тюрьме. Я не имел ничего против, смерть не казалась мне больше несносной. Я чувствовал сильные боли, которые с тех пор бывают часто, и увидел сон или видение, называй как хочешь. Я лежал, и в груди у меня нестерпимо жгло, и я сопротивлялся и кричал, но вдруг услышал чей-то смеющийся голос — голос, который я не слышал с самого детства. Это был голос моей матери, низкий женский голос, полный сладострастия и любви. И тогда я увидел, что это была она, возле меня была мать, и держала меня на коленях, и открыла мою грудь, и погрузила свои пальцы глубоко мне в грудь меж ребер, чтобы вынуть сердце. Когда я это увидел и понял, мне это не причинило боли. Вот и теперь, когда эти боли возвращаются, это не боли, это пальцы матери, вынимающие мое сердце. Она прилежна в этом. Иногда она жмет и стонет как будто в сладострастии. Иногда она смеется и издает нежные звуки. Иногда она не рядом со мной, а наверху, на небе, меж облаков вижу я ее лицо, большое, как облако, тогда она парит и улыбается печально, и ее печальная улыбка высасывает меня и вытягивает сердце из груди.
Он все снова и снова говорил о ней, о матери.
— Знаешь что еще? — спросил он в один из последних дней. — Как-то я забыл свою мать, но ты напомнил мне. Тогда тоже было очень больно, как будто звери грызли мне внутренности. Тогда мы были еще юношами, красивыми, молодыми мальчиками были мы. Но уже тогда мать позвала меня, и я последовал за ней. Она ведь всюду. Она была цыганкой Лизе, она была прекрасной Мадонной мастера Никлауса, она была жизнью, любовью, сладострастием, и она же была страхом, голодом, инстинктом. А теперь она — смерть, она вложила мне пальцы в грудь.
— Не говори так много, дорогой, — попросил Нарцисс, — подожди до завтра.
Гольдмунд посмотрел с улыбкой ему в глаза, с той новой, появившейся после путешествия улыбкой, которая была такой старческой и немощной, а порой даже немного слабоумной, иногда исполненная доброты и мудрости.
— Мой дорогой, — шептал он, — я не могу ждать до завтра. Я должен попрощаться с тобой, а на прощание сказать все. Послушай меня еще немного. Я хотел рассказать тебе про мать и про то, что она держит свои пальцы на моем сердце. Вот уже несколько лет моей любимой тайной мечтой было создать фигуру матери, она была для меня самым святым образом из всех, я всегда носил его в себе — образ, полный любви и тайны Еще недавно мне было бы совершенно невыносимо помыслить, что я могу умереть, не создав ее фигуры моя жизнь показалась бы мне бесполезной. А теперь видишь, как удивительно все получается с ней: вместо того чтобы мои руки создавали ее, она создает меня. Ее руки у меня на сердце, и она освобождает его и опустошает меня, она соблазняет меня на смерть, а со мной умрет и моя мечта, прекрасная фигура, образ великой Евы-матери. Я еще вижу его и, если бы у меня были силы в руках, я бы воплотил его. Но она этого не хочет, она не хочет, чтобы я сделал ее тайну видимой. Ей больше хочется, чтобы я умер. Я умру охотно, она мне поможет.
Ошеломленный, слушал эти слова Нарцисс, ему пришлось наклониться к самому лицу друга чтобы понять их. Некоторые он слышал с трудом, некоторые — хорошо, но смысл их остался скрытым для него.
И вот больной еще раз открыл глаза, вглядываясь в лицо своего друга. И сделав такое движение, будто хотел покачать головой, он прошептал:
— А как же ты будешь умирать, Нарцисс, если у тебя нет матери? Без матери нельзя любить. Без матери нельзя умереть.
Что он еще прошептал, нельзя было разобрать. Двое последующих суток Нарцисс сидел у его постели днем и ночью и видел, как он угасал. Последние слова Гольдмунда пламенели в его сердце.
Перевод Г. Барышниковой
Паломничество в Страну Востока
1
Раз уж суждено мне было пережить вместе с другими нечто великое, раз уж имел я счастье принадлежать к Братству и быть одним из участников того единственного в своем роде странствия, которое во время оно на диво всем явило свой мгновенный свет, подобно метеору, чтобы затем с непостижимой быстротой стать жертвой забвения, хуже того, кривотолков, — я собираю всю свою решимость для попытки описать это неслыханное странствие, на какое не отважился ни единый человек со дней рыцаря Гюона[14] и Неистового Роланда[15] вплоть до нашего примечательного времени, последовавшего за великой войной[16], — времени мутного, отравленного отчаянием и все же столь плодотворного. Не то чтобы я хоть сколько-нибудь обманывался относительно препятствий, угрожающих моему предприятию: они весьма велики, и притом не только субъективного свойства, хотя и последние уже были бы достаточно существенными, В самом деле, мало того, что от времени нашего странствия у меня не осталось решительно никаких записей, никаких помет, никаких документов, никаких дневников, — протекшие с той поры годы неудач, болезней и суровых тягот отняли у меня и львиную долю моих воспоминаний; среди ударов судьбы и все новых обескураживающих обстоятельств как сама память моя, так и мое доверие к этой некогда столь драгоценной памяти стали постыдно слабы. Но даже если отвлечься от этих личных трудностей, в какой-то мере руки у меня связаны обетом, который я принес как член Братства: положим, обет этот не ставит мне никаких границ в описании моего личного опыта, однако он возбраняет любой намек на то, что есть уже сама тайна Братства. Пусть уже много, много лет Братство не подает никаких признаков своего осязаемого существования, пусть за все это время мне ни разу не довелось повстречать никого из прежних моих собратий, — в целом мире нет такого соблазна или такой угрозы, которые подвигли бы меня преступить обет. Напротив, если бы меня в один прекрасный день поставили перед военным судом и перед выбором: либо дать себя умертвить, либо предать тайну Братства, — о, с какой пламенной радостью запечатлел бы я однажды данный обет своею смертью!