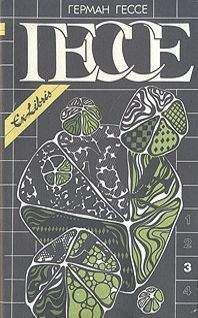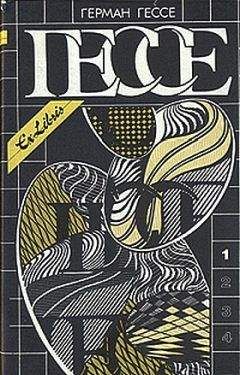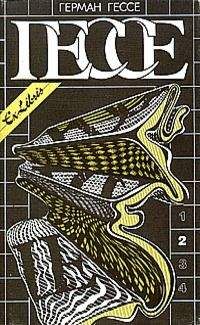— А как же ты будешь умирать, Нарцисс, если у тебя нет матери? Без матери нельзя любить. Без матери нельзя умереть.
Что он еще прошептал, нельзя было разобрать. Двое последующих суток Нарцисс сидел у его постели днем и ночью и видел, как он угасал. Последние слова Гольдмунда пламенели в его сердце.
Перевод Г. Барышниковой
Паломничество в Страну Востока
1
Раз уж суждено мне было пережить вместе с другими нечто великое, раз уж имел я счастье принадлежать к Братству и быть одним из участников того единственного в своем роде странствия, которое во время оно на диво всем явило свой мгновенный свет, подобно метеору, чтобы затем с непостижимой быстротой стать жертвой забвения, хуже того, кривотолков, — я собираю всю свою решимость для попытки описать это неслыханное странствие, на какое не отважился ни единый человек со дней рыцаря Гюона[14] и Неистового Роланда[15] вплоть до нашего примечательного времени, последовавшего за великой войной[16], — времени мутного, отравленного отчаянием и все же столь плодотворного. Не то чтобы я хоть сколько-нибудь обманывался относительно препятствий, угрожающих моему предприятию: они весьма велики, и притом не только субъективного свойства, хотя и последние уже были бы достаточно существенными, В самом деле, мало того, что от времени нашего странствия у меня не осталось решительно никаких записей, никаких помет, никаких документов, никаких дневников, — протекшие с той поры годы неудач, болезней и суровых тягот отняли у меня и львиную долю моих воспоминаний; среди ударов судьбы и все новых обескураживающих обстоятельств как сама память моя, так и мое доверие к этой некогда столь драгоценной памяти стали постыдно слабы. Но даже если отвлечься от этих личных трудностей, в какой-то мере руки у меня связаны обетом, который я принес как член Братства: положим, обет этот не ставит мне никаких границ в описании моего личного опыта, однако он возбраняет любой намек на то, что есть уже сама тайна Братства. Пусть уже много, много лет Братство не подает никаких признаков своего осязаемого существования, пусть за все это время мне ни разу не довелось повстречать никого из прежних моих собратий, — в целом мире нет такого соблазна или такой угрозы, которые подвигли бы меня преступить обет. Напротив, если бы меня в один прекрасный день поставили перед военным судом и перед выбором: либо дать себя умертвить, либо предать тайну Братства, — о, с какой пламенной радостью запечатлел бы я однажды данный обет своею смертью!
Позволю себе попутно заметить: со времени путевых записок графа Кайзерлинга[17], появилось немного книг, авторы которых отчасти невольно, отчасти с умыслом создавали видимость, будто и они принадлежали к Братству и совершали паломничество в страну Востока. Даже авантюрные путевые отчеты Оссендовского[18] вызвали это подозрение, не в меру для них лестное. На деле все эти люди не состоят с нашим Братством и с нашим паломничеством ни в каком отношении, или разве что в таком, в каком проповедники незначительных пиетистских сект состоят со Спасителем, с апостолами и со Святым Духом, на особую близость к каковым они, однако же, притязают. Пусть граф Кайзерлинг и впрямь объехал свет со всеми удобствами, пусть Оссендовский вправду исколесил описанные им страны, в любом случае их путешествия не явились чудом и не привели к открытию каких-либо неизведанных земель, между тем как некоторые этапы нашего паломничества в страну Востока, сопряженные с отказом от банальных удобств современного передвижения, как-то: железных дорог, пароходов, автомобилей, аэропланов, телеграфа и прочая, — вправду знаменовали некий выход в миры эпоса и магии. Ведь тогда, вскоре после мировой войны, для умонастроения народов, в особенности побежденных, характерно было редкое состояние нереальности и готовности преодолеть реальное, хотя и должно сознаться, что действительные прорывы за пределы действия законов природы, действительные предвосхищения грядущего царства психократии совершались лишь в немногих точках. Но наше тогдашнее плавание к Фамагусте[19] через Лунное море, под предводительством Альберта Великого[20] или открытие Острова Бабочек[21] в двенадцати линиях по ту сторону Дзипангу,[22] или высокоторжественное празднество на могиле Рюдигера[23] — все это были подвиги и переживания, какие даются людям нашей эпохи и нашей части света лишь однажды в жизни.
Уже здесь, как кажется, я наталкиваюсь на одно из важнейших препятствий к моему повествованию. Те уровни бытия, на которых совершались наши подвиги, те пласты душевной реальности, которым они принадлежали, было бы сравнительно нетрудно сделать доступными для читателя, если бы только дозволено было ввести последнего в недра тайны Братства. Но коль скоро это невозможно, многое, а может быть, и все покажется читателю немыслимым и останется для него непонятным. Однако нужно снова и снова отваживаться на парадокс, снова и снова предпринимать невозможное. Я держусь одних мыслей с Сиддхартой, нашим мудрым другом с Востока, сказавшим однажды: «Слова наносят тайному смыслу урон, все высказанное незамедлительно становится слегка иным, слегка искаженным, слегка глуповатым — что ж, и это неплохо, и с этим я от души согласен: так и надо, чтобы то, что для одного — бесценная мудрость, для другого звучало как вздор». Впрочем, еще века тому назад деятели и летописцы нашего Братства распознали это препятствие и отважно вступили с ним в борьбу, и один между ними — один из величайших — так высказался на эту тему в своей бессмертной октаве:
Кто речь ведет об отдаленных странах,
Ему являвших чудеса без меры,
Во многих будет обвинен обманах
И не найдет себе у ближних веры,
Причисленный к разряду шарлатанов;
Тому известны многие примеры.
А потому надеяться не смею,
Что чернь слепую убедить сумею.[24]
Сопротивление «слепой черни», о котором говорит поэт, имело одним из своих последствий то, что наше странствие, некогда поднимавшее тысячи сердец до экстаза, сегодня не только предано всеобщему забвению, но на память о нем наложено форменное табу. Что ж, история изобилует случаями такого рода. Вся история народов часто представляется мне не чем иным, как книжкой с картинками, запечатлевшими самую острую и самую слепую потребность человечества — потребность забыть. Разве каждое поколение не изгоняет средствами запрета, замалчивания и осмеяния как раз то, что представлялось предыдущему поколению самым важным? Разве мы не испытали сейчас, как невообразимая, страшная война, длившаяся из года в год, из года в год уходит, выбрасывается, вытесняется, исторгается, как по волшебству, из памяти целых народов и как эти народы, едва переведя дух, принимаются искать в занимательных военных романах представление о своих же собственных недавних безумствах и бедах? Что ж, для деяний и страданий нашего Братства, которые нынче забыты или превратились в посмешище для мира, тоже настанет время быть заново открытыми, и мои записи призваны хоть немного помочь приближению такого времени.
К особенности паломничества в страну Востока принадлежало в числе другого и то, что хотя Братство, предпринимая это странствие, имело в виду совершенно определенные, весьма возвышенные цели (каковые принадлежат сфере тайны и постольку не могут быть названы), однако каждому отдельному участнику было дозволено и даже вменено в обязанности иметь еще свои, приватные цели; в путь не брали никого, кто не был бы воодушевлен такими приватными целями, и каждый из нас, следуя, по-видимому, общим идеалам, стремясь к общей цели, сражаясь под общим знаменем, нес в себе как самый скрытый источник сил и самое последнее утешение свою собственную, неразумную детскую мечту. Что до моей приватной цели, о которой мне был задан вопрос перед моим принятием в Братство у престола Высочайшего Присутствия, то она была весьма проста, между тем как некоторые другие члены Братства ставили себе цели, вызывающие мое уважение, но не совсем для меня понятные. Например, один из них был кладоискатель и не мог думать ни о чем, кроме как о стяжании благородного сокровища, которое он именовал «Дао»,[25] между тем как другой, еще того лучше, забрал себе в голову, что должен уловить некую змею, которой он приписывал волшебные силы и давал имя «Кундалини»[26]. В противность всему этому для меня цель путешествия и цель жизни, возникавшая передо мной в сновидениях уже с конца отрочества, состояла в том, чтобы увидеть прекрасную принцессу Фатмэ[27], а если возможно, и завоевать ее любовь.