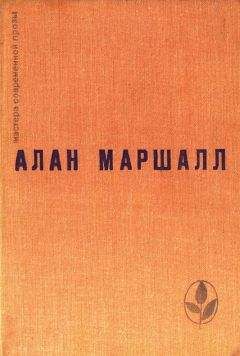Миссис Чейли сложила простыни, однако на лице ее были написаны тоска и уныние. В этом мире теперь никому до нее нет дела, на корабле — не дома. Вчера, когда зажглись фонари и матросы стали топать у нее над головой, она заплакала; и сегодня вечером она опять будет плакать, и завтра тоже. Ведь она так далеко от дома. А пока она начала расставлять свои безделушки в каюте, доставшейся ей так легко. Это были вещицы довольно странные для морского путешествия: китайские мопсики, миниатюрные чайные сервизы, чашки с красочным гербом города Бристоль, коробочки для булавок с инкрустациями в виде трилистника, головки антилоп из раскрашенного гипса, а также множество маленьких фотографий, запечатлевших простых рабочих в выходных костюмах и женщин, держащих младенцев в белоснежных кружевах. Был там еще один портрет в позолоченной раме, для которого требовался гвоздь, и, перед тем как начать поиски гвоздя, миссис Чейли надела очки и прочла то, что было написано на приклеенной сзади бумажной табличке.
«Этот портрет ее хозяйки подарен Эмме Чейли Уиллоуби Винрэсом в знак благодарности за тридцать лет преданной службы».
Слезы застлали ее глаза, смазав буквы и шляпку гвоздя.
— Сколько смогу быть полезной вашей семье, сколько смогу! — проговорила миссис Чейли, ударяя по гвоздю, и тут из коридора донесся мелодичный голос:
— Миссис Чейли! Миссис Чейли!
Чейли мгновенно одернула платье, привела в порядок лицо и открыла дверь.
— Я в затруднении, — сказала миссис Эмброуз; она раскраснелась и запыхалась. — Вы знаете этих мужчин! Стулья слишком высоки, столы слишком низки, от двери до пола целых шесть дюймов. Что мне нужно: молоток, старое стеганое одеяло и — не найдется ли у вас обычного кухонного стола? Только никому ничего не говорите… — Тут она распахнула дверь в каюту, предназначенную для кабинета ее мужа, где, наморщив лоб и подняв воротник, взад-вперед ходил Ридли.
— Они будто специально задались целью издеваться надо мной! — выкрикнул он, внезапно остановившись. — Можно подумать, я пустился в это плавание лишь для того, чтобы подцепить ревматизм или воспаление легких! Да, следовало больше думать, слушая Винрэса. Дорогая, — Хелен в этот момент ползала на коленях под столом, — ты только перепачкаешься, нам лучше просто признать, что мы обречены на шесть недель невыразимых мучений. Поехать вообще было верхом глупости, но, раз уж мы здесь, полагаю, я смогу встретить это как мужчина. Конечно, недуги мои усугубятся, я уже чувствую себя хуже, чем вчера, но винить нам некого, кроме самих себя, а дети благополучно…
— С дороги! С дороги! С дороги! — закричала на мужа Хелен, преследуя его из угла в угол со стулом наперевес, будто ловя курицу. — Не мешайся под ногами, Ридли, и через полчаса, увидишь, все будет готово.
Она выставила его из каюты, и его стоны и проклятия теперь доносились из коридора.
— Осмелюсь предположить, он, видно, не очень-то крепок здоровьем, — проговорила миссис Чейли, сочувственно глядя на миссис Эмброуз и помогая ей передвигать и переносить мебель.
— Всё книги, — вздохнула Хелен, поднимая с пола и расставляя на полке охапку угрюмых фолиантов. — Греческий с утра до ночи. Молитесь, Чейли, чтобы мисс Рэчел достался неграмотный муж.
Неудобства и суровости быта, которые обычно весьма досаждают в начале морского путешествия и делают его таким безрадостным, скоро были преодолены, и дальше дни потекли вполне приятной чередой. Октябрь был в самом разгаре, но он выдался таким ровно теплым, что по сравнению с ним даже первые месяцы лета казались ненадежными и капризными, как ветреная юность. Великие пути земли лежали под осенним солнцем, и вся Англия, от вересковых пустошей до корнуэльских скал, с рассвета до заката купалась в его теплых лучах, подставляя им свои равнины — желтые, зеленые и пурпурные. Даже большие города радостно сверкали своими крышами. В тысячах маленьких садиков цвели миллионы темно-красных цветов, покуда старушки, так нежно за ними ухаживавшие, не подбирались к ним с ножницами, и не срезали их сочные стебли, и не укладывали их на холодные каменные плиты в деревенских церквах. Бесчисленные компании возвращались на закате с пикников, восклицая: «Есть ли на свете что прекраснее этого дня?!» «Это ты!» — шептали юноши. «Ах нет, это ты», — отвечали им девушки. Всех стариков и многих больных вытаскивали на воздух, быть может всего на шаг или два от крыльца, и они предсказывали этому миру доброе будущее. И уже вовсе было не счесть признаний и излияний любви, что слышались не только в полях среди ржи, но и в освещенных желтым светом комнатах, где перед окнами, широко открытыми в сад, мужчины с сигарами целовали женщин с проседью в волосах. Одни говорили, что это ясное небо похоже на жизнь, которую они прожили, а другие — что оно предвещает им ясную жизнь впереди. Длиннохвостые птицы кричали и тараторили и перелетали с дерева на дерево, сверкая золотыми глазками в оперении.
И в это время на суше мало кто вспоминал о море. Само собой разумелось, что море спокойно; когда за окном бушует непогода и плющ хлещет листьями в окно спальни, во многих домах любящие перед поцелуем шепчут друг другу: «Вспомни о кораблях в ночи», — или: «Хвала небу, я не служу на маяке!» — но теперь в этом не было нужды. В их воображении корабли, уходящие за горизонт, исчезали, таяли, как снег на воде. Представления взрослых на этот счет на самом деле были не намного яснее, чем представления маленьких созданий в купальных костюмчиках, шлепавших по морской пене вдоль всего побережья Англии и зачерпывавших полные ведерки соленой воды. Они видели белые паруса и клочья дыма, проплывавшие над горизонтом, но скажи им, что это смерчи или лепестки белых морских цветов, — и они поверили бы.
Однако люди на кораблях не менее странно представляли себе Англию. Она казалась им не просто островом, маленьким островом, но островом стремительно уменьшающимся, где люди были пленниками, бесцельно снующими муравьями, теснящими и едва не выталкивающими друг друга за край, производящими пустой, неразличимый гомон, который то походил на перебранку, то вовсе замолкал. В конце концов, когда земля скрылась из виду, стало ясно, что население Англии совершенно онемело. А затем тот же недуг начал поражать и другие части суши: Европа уменьшилась, съежились Азия, Африка и Америка, пока вообще не стало казаться маловероятным, что корабль когда-нибудь набредет на какой-либо из этих сморщенных кусочков земной тверди. Но зато само судно теперь преисполнилось особым достоинством, оно превратилось в самостоятельного обитателя великого мира, в котором были лишь единицы ему подобных, день за днем во всех направлениях бороздивших пустынную Вселенную. И все, что впереди, и все, что позади, скрывала непроницаемая завеса. Судно было теперь гораздо более одиноко, чем караван в песках, и тайна его была гораздо значительнее, ведь оно двигалось лишь благодаря собственной внутренней силе и собственным запасам. Море могло покарать его смертью или одарить несравненным счастьем, но ни о том, ни о другом никто не узнал бы. «Евфросина» была невестой, спешившей к суженому, девой, не знавшей мужа, в своей мощной силе и незапятнанной чистоте она могла быть уподоблена всему самому прекрасному на свете, ибо жила своей и только своей чудесной жизнью.
Конечно, если бы небеса не благословили путешественников такой прекрасной погодой и чередой ласковых, безупречных дней, когда ничто в обозримом пространстве не смущало гладкий круг океана, миссис Эмброуз затосковала бы очень скоро. А так она поставила на палубе свои пяльцы и рядом с ними — маленький столик, на котором лежал раскрытый философский том в черном переплете. Она выбирала нить из многоцветного клубка, который держала на коленях, и вплетала красный проблеск в кору дерева или желтый — в речной поток. Миссис Эмброуз вышивала большую картину — тропический лес, река, скоро там должны были появиться пятнистые олени, пасущиеся среди изобилия бананов, апельсинов и гигантских гранатов, и голые туземцы, швыряющие дротики. Между стежками она через плечо заглядывала в книгу и читала фразу-другую о Реальности Материи или о Естестве Добра. Вокруг нее люди в синих робах ползали на коленях и драили палубу или насвистывали, перегнувшись через поручни, а невдалеке сидел мистер Пеппер и резал перочинным ножиком сушеные коренья. Остальные, кто — где, занимались каждый своим делом: Ридли — греческим, и уже он не мог представить себе лучшего места для занятий; Уиллоуби — бумагами, он всегда в плаваниях избавлялся от недоделок; а Рэчел… Хелен между философскими сентенциями не раз спрашивала себя, а что же все-таки делает Рэчел? Ей даже — правда, не очень сильно — хотелось пойти и посмотреть. С первого вечера они едва сказали друг другу несколько слов; встречаясь, бывали вежливы, но не было и намека на какое-то сближение между ними. Рэчел, судя по всему, была в очень хороших отношениях с отцом — даже, на взгляд Хелен, слишком хороших — и не выказывала никаких попыток нарушить покой Хелен, как и Хелен — ее.