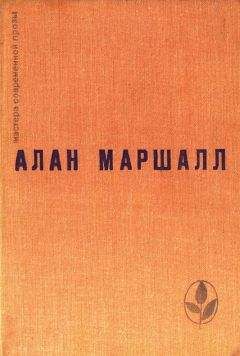А Рэчел в это время сидела в своей комнате, не делая совершенно ничего. Когда судно заполнялось пассажирами, этому помещению давали какое-нибудь величественное название, и оно становилось прибежищем для страдавших морской болезнью пожилых дам, а палуба предоставлялась молодому поколению. Поскольку в комнате стоял рояль и на полу горой лежали книги, Рэчел считала ее своей и просиживала здесь часами — разыгрывала труднейшие музыкальные пассажи, немного читала по-немецки или, не больше, по-английски, смотря по настроению, а порой — как сейчас — просто бездельничала.
Кроме некоторой природной тяги к праздности, тому причиной было, конечно, и полученное ею образование, обычное для девушек конца девятнадцатого века. Кроткие пожилые учителя, невзыскательные доктора различных наук преподали ей начатки примерно десяти отраслей знаний, но заставить ее упорно заниматься было для них так же трудно, как упрекнуть ее в том, что у нее грязные руки. Час или два учения в неделю проходили с приятностью, отчасти благодаря другим ученицам, отчасти потому, что окна класса выходили на зады магазина — зимой так интересно было наблюдать за прохожими, сновавшими на фоне его красных окон, — а еще из-за смешных случаев, которые всегда происходят, если больше двух человек собираются вместе. Но ни одного предмета она не знала сколько-нибудь глубоко. Ее ум походил на ум интеллектуала в начале правления королевы Елизаветы: она верила практически во все, что ей говорили, и могла выдумать объяснение всему, что говорила сама. Форма Земли, мировая история, отчего двигаются поезда, как следует обращаться с капиталом, каким законам подчиняется общество, что вообще людям нужно от жизни и зачем, самые простые представления о современном порядке вещей — ничему из этого не научили ее ни преподаватели, ни классные дамы. Впрочем, в этой системе образования было одно неоспоримое преимущество: она ничему не учила, но и не препятствовала развитию ни одного из дарований, которые ученику посчастливилось иметь от природы. Рэчел была музыкальна, поэтому ей было позволено не заниматься всерьез ничем, кроме музыки, и она погрузилась в нее с головой. Все силы, которые могли бы быть отданы языкам, науке, литературе, приобретению друзей, познанию мира, тратились только на музыку. Поняв ограниченность учителей, она практически училась сама. В двадцать четыре года она понимала в музыке столько, сколько обычно люди начинают понимать к тридцати, и могла играть в полную силу своего дара, и с каждым днем становилось яснее, что природа была к ней поистине щедра. Пусть этот один столь явный талант и сопровождался мыслями и грезами нелепыми, неразумными, какая мудрость могла бы его заменить?
Жизнь Рэчел, подобно ее образованию, также ничем особенным не выделялась. Она была единственным ребенком в семье, и ей не пришлось переносить насмешки и притеснения братьев и сестер. Мать умерла, когда Рэчел было одиннадцать лет, и ее растили две тетки, сестры отца, жившие — ради свежего воздуха — в Ричмонде[7], в просторном и удобном доме. Ее, конечно, воспитывали с преувеличенным вниманием и заботой, что шло ей на пользу, пока она была ребенком, но сильно задержало развитие ее самосознания в пору взросления. Очень долго она и понятия не имела о таких вещах, как женская нравственность. Кое-что об этом она искала и находила в старых книгах, но всегда в невероятно неуклюжем виде, впрочем, книги ее мало интересовали, и поэтому она никогда не задумывалась о той цензуре, что проводили сначала тетки, а потом и отец. Кое-что можно было бы узнать от подруг, но их у нее почти не было — до Ричмонда слишком долго добираться, — а единственная более или менее близкая ей девушка была сверх всякой меры религиозна и в минуты откровенности могла говорить только о Боге да о том, как всякому следует нести свой крест, а эти темы мало волновали Рэчел, чей ум был занят совсем иным.
Полулежа в кресле, одну руку положив под голову, а другою сжимая шарик на подлокотнике, Рэчел напряженно размышляла. Вообще, ее ненавязчивое учение оставляло ей довольно много времени для размышлений. Взгляд ее был прикован к шару на корабельных поручнях, и, если бы что-то его случайно загородило на мгновение, это испугало и встревожило бы девушку. Размышления начались с того, что она рассмеялась, прочитав строфу из перевода «Тристана»:
Робко съежась, весь дрожит,
Тщетно скрыть пытаясь стыд.
К августейшему дяде подходит
И невесту обмершую подводит.
Разве рассказ мой на бессмыслицу походит?[8]
— Вот именно, походит! — воскликнула Рэчел и отшвырнула книжку. Затем она открыла «Письма» Каупера[9], предписанные ей отцом для чтения «из классики», но они нагоняли на нее тоску, и, прочитав одно предложение, где говорилось об аромате ракитника в саду автора, она представила засыпанную цветами небольшую переднюю в Ричмонде в день похорон ее матери; цветы пахли так сильно, что с тех пор аромат любых цветов неизбежно вызывал у нее только это жуткое воспоминание. Затем, уже почти не видя и не слыша окружавшего ее настоящего, она пустилась один за другим перебирать образы прошлого. Тетя Люси расставляет цветы в гостиной.
— Тетя Люси, — набирается смелости Рэчел, — я не люблю запах ракитника. Сразу вспоминаю похороны.
— Ерунда, Рэчел, — отвечает тетя Люси. — Не говори глупостей, милая. По-моему, ракитник — растение особенно жизнерадостное.
Сидя под жаркими солнечными лучами, Рэчел сосредоточилась на характерах своих теток, на их взглядах, образе жизни. Этот мысленный путь она проделывала уже сотни раз, прогуливаясь по утрам в Ричмондском парке и за размышлениями не замечая ни деревьев, ни людей, ни оленей. Почему они живут так, а не иначе, и что они чувствуют, и какой во всем этом смысл? Опять она слышит голос тети Люси, которая обращается к тете Элинор. В это утро тете Люси вздумалось обсудить поведение служанки:
— И конечно, в пол-одиннадцатого утра горничная должна подметать лестницу, а как же иначе?
Как странно! Как невыразимо странно! Но и сама себе она не может объяснить, почему, как только тетя Люси заговорила, вся картина их жизни вдруг показалась Рэчел чужой и непонятной, а сами тетки — вроде случайных вещей, стульев или зонтиков, разбросанных где попало, без всякого смысла. Однако вслух она только спрашивает, как всегда чуть заикаясь:
— Тетя Люси, в-вы любите тетю Элинор?
На что та отвечает со своим нервным квохчущим смешком:
— Милое дитя, что за вопросы ты задаешь?
— А как любите? Очень? — настаивает Рэчел.
— Пожалуй, я никогда и не задумывалась, очень или не очень, — говорит мисс Винрэс. — Кто любит, об этом не думает, Рэчел.
Это уже камешек в огород племянницы, от которой тетки никогда не получали столько тепла, сколько им хотелось бы.
— Ноты знаешь, как я тебя люблю, милая, правда? Ты дочь своей матери, хотя бы поэтому, но не только поэтому, не только. — Она притягивает к себе Рэчел и целует ее, слегка расчувствовавшись, и суть их разговора сразу теряется, безвозвратно растекается в пространстве, словно пролитое на пол молоко.
Так Рэчел дошла до той стадии размышлений, если это еще можно назвать размышлениями, когда глаза уже не могут оторваться от шара на поручнях, а губы перестают шевелиться. Ее попытки понять своих теток только обижали их, из чего следовало, что лучше даже и не пытаться. Пусть эти странные мужчины и женщины — тетки, семейство Хантов, Ридли, Хелен, мистер Пеппер и все остальные — будут символами, безликими, но преисполненными достоинства и значительности, символами старости или юности, материнства или учености, пусть они будут даже красивы — красотою актеров на сцене. Получалось, что, произнося слова, люди не выражают ни своих мыслей, ни чувств, — но для этого как раз и существует музыка. Можно видеть и чувствовать реальность, но не говорить о ней, пусть жизнь течет сама по себе, как нравится другим, об этом можно вовсе не думать, просто отдавать себе отчет в том, что внешние формы жизни людей отчего-то странны и нелепы. Поглощенная музыкой, она принимала свой удел вполне благосклонно, срываясь на раздражение не чаще раза-двух в месяц, всегда уступая, как она уступила сейчас. Мысли ее стали путаться, уже не в силах вырваться из паутины сна, а сознание будто стало шириться, шириться, чудесным образом сливаясь с духом всего, что ее окружало: белесых досок на палубе, духом моря, бетховенского опуса 112 и даже духом бедного Уильяма Каупера в далеком Олни. И вот оно уже клочком пуха летит над морем, то прикасаясь к воде, то поднимаясь в воздух, пока совсем не скрывается из виду. При его взлетах и падениях Рэчел начала клевать носом, а когда он исчез, она заснула.
Десять минут спустя миссис Эмброуз открыла дверь и посмотрела на Рэчел. Хелен не удивило, каким образом та проводит свои утренние часы. Она оглядела комнату: рояль, книги, беспорядок. Сначала Хелен оценила вид Рэчел с эстетической точки зрения: в своей беззащитности она походила на жертву, выпавшую из когтей хищной птицы; однако, если посмотреть на нее просто как на девушку двадцати четырех лет, — картина наводила на размышления. Миссис Эмброуз задумалась и простояла так не меньше двух минут. Затем она улыбнулась и бесшумно вышла; ей вовсе не хотелось разбудить спящую и оказаться перед неловкой необходимостью с ней разговаривать.