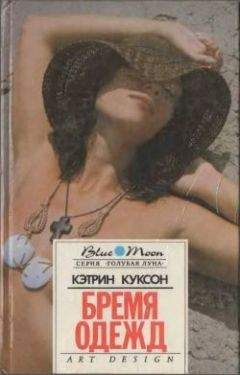— Ты с ума сошел!
— Увы, я еще не сошел с ума, как это ни странно, не правда ли? Но я не далек от этого безрассудного поступка, и если ты, дорогая Катя, будешь по-прежнему вести среди меня работу, предназначенную для женщин, и читать мне доклады, предназначенные для пионеров, мне придется расстаться с моим бедным подержанным умом…
— Ты меня не любишь! — говорит Катя.
— Да! На сто процентов! И изжить это невозможно. Даже при самом искреннем желании увязать и охватить.
Правдивый рассказ о Пурисе, Мухине и их молодых женах, собственно говоря, окончен. Но рассказ без развязки — это лошадь без головы. Приделать же развязку, когда она сама собой напрашивается, не так уж трудно Поэтому автор, которому, говоря по совести, уже надоел этот слишком растянутый рассказ, приступает к эпилогу.
Обыкновенно средний добросовестный писатель восьмидесятых годов начинал эпилог так: «Прошел год. Ясный, погожий день клонился к вечеру…»
Мы же, принимая во внимание режим экономии, предложим вниманию читателей самый короткий эпилог в мире.
Абраша Пурис женился на Марусе, а Жоржик Мухин женился на Кате. Они счастливы. Пока.
1927
— …Трудно приходится в борьбе, это что и говорить — очень трудно. Уж такой я человек — не могу молчать, да и только. Чуть увижу какой непорядок — пропал, погиб! Не могу молчать!.. Знаю, что не мое дело вмешиваться, а не могу — сознательность не позволяет. Оттого вся моя жизнь теперь не жизнь, а одно мучительное сострадание…
Он поник головой и покрутил грязный патлатый ус. Мы деликатно молчали. Редакция опустела, и только где-то за семью фанерными перегородками одиноко щелкала пишущая машинка, надрываясь под тяжестью запоздавшей переводчицы. Он попросил папиросу, суетливо затянулся и махнул рукой
— Сейчас живу на вокзале, потому с последним билетом опять ничего не вышло. Я, видите ли, уже пять раз приобретал билеты — на родину ехать, да все никак не удается. В последний раз даже на поезд сел. Ну, думаю, теперь доеду. И даже на сердце полегчало. Доехал я до станции Малый Ярославец. Дай, думаю, за кипяточком сбегаю. Слез это я, честь честью, и побежал по путям к станции. Тут, вижу, идет человек в железнодорожной форме и несет мешок Что, думаю, несет человек? Он от меня — я за ним… Даже не заметил я, как поезд ушел, — такое любопытство меня взяло… Пришли таким порядком в ближайшую деревню. Он в избу — я за ним. Что, спрашиваю, в мешке несешь, подозрительный гражданин? Оказалось — кот. Так я в Москву и пер по шпалам… Не могу переносить, когда непорядок какой или преступление. От этого все мои сострадания на жизненном пути совершаются… Эх!.. Погибший я человек!.. На двенадцати местах служил… Везде ко мне придирались, потому правда-матка, она глаза колет, так-то…
— А скажите, — попросили мы робко, — как это у вас вышло, то есть как это к вам придирались и как вы ушли со службы?..
— Хорошо, — сказал он с готовностью, — я расскажу вам, как я погиб.
Он слезливо заморгал седовато-рыжими ресницами и начал…
Рассказ счетовода Барынина о том, как он погиб
Служил я счетоводом у себя на родине, в провинции, в правлении треста «Кость и кожа». Хорошо. Семью держал — жена и дочка… Разряд имел, конечно, по сетке. Хорошо. И тут меня осенило. А оттуда пошла моя жизнь вверх тормашками. Погиб я от зава нашего, по фамилии был Канеръюмкер, Александр Исакович Канеръюмкер. Хорошо. И узнал я, что Александр Исакович сожительствует с посторонней женщиной, не зарегистрировавшись с нею по законам нашей социалистической республики в загсе. Ходит к ней на ночь. Хорошо. Думал я, думал, и тут меня осенило. И написал я мой первый стих, и от него все пошло. Хороший стих был. До сих пор наизусть помню. Такой был стих:
В нашем тресте «Кость и кожа»
Есть заведующий тоже.
Звать его Александр Исакич,
И любит он к служащим придираться.
А сам про себя не замечает
То, что каждый про него замечает,
Нахально спит он, как с женою,
С посторонней женщиной одною…
Там дальше все про него и выложил, как есть. А кончался стих так:
Не пора ли поставить точку,
А то скоро Канеръюмкер будет иметь незаконную дочку.
Нужно прекратить безобразье
И покончить с развратом сразу!
И отнес в редакцию газеты «Трудящийся пролетарий». А подписал псевдонимом — «Красный очевидец». Хорошо. Не поместили. Оказалось, все они там одна шайка с нашим Канеръюмкером. Хорошо. И больно мне сделалось. И сразу я почувствовал, что не могу молчать, когда вокруг безобразие. А тут еще сослуживцы покою не дают. Дразнятся Пушкиным. «Пушкин, говорят, Пушкин, почему ведомость не готова?» Или: «Иди, Пушкин, в местком на собрание». Хорошо. Не стало мне покою от обиды, и решил я вывести зава нашего на свежую воду. Проходил я как-то поздно вечером мимо службы — смотрю, окошко у зава светится. А кабинет у него в первом этаже. Приник я к окну и вижу — сидит наш Александр Исакович, обложился делами для виду, а сам водку трескает. Нальет из графинчика полный стакан и хлопнет сразу, даже без закуски. И стало мне грустно. Вот, думаю, до чего дошло моральное разложение. Никому ничего не сказал и решил хорошенько проверить. Прихожу на другой день. Сидит и хлещет. Прихожу на третий — то же самое. Надерется это до положения риз и едет на ночь к сожительнице. Такое безобразие! Пошел я в РКИ, доложил все честь честью. Так, мол, и так, при исполнении служебных обязанностей… Не поверили. Однако против факта не очень постоишь. Составили междуведомственную комиссию по всем правилам с представителем от милиции, дождались десяти часов и двинулись… Хорошо. Смотрим через окно — так и есть! Сидит Канеръюмкер, как будто бы работает, а сам нет, нет и нальет! Нет, нет и выпьет. Тут я не мог больше выдержать. «Вот! — кричу я. — Вот где предаются интересы трудящихся и передового крестьянства! Вяжите его, социал-предателя!» Тут представитель милиции первый влез в окно, а мы все вокруг — через двери, да так его, раба божия, и захлопали со стаканом в руке… Вот оно что… Да-а-а-а. А ведь оказалось, что не водка была в графинчике, а вода. Ну, кто бы мог подумать!.. Так вот… Уволили меня со службы. С тех пор пошло… И стал я пропащим человеком. Поехал в Москву, до Калинина доходил, да так тут и застрял… Так-то.
Счетовод Брыкин замолчал и понурился. Нам стало неловко. Пора было уходить. В редакции давным-давно окончились занятия и курьерша с ключами уже давно живым укором стояла в дверях. Мы стали собираться.
— Как же будет с заметкой? — хмуро спросил Брыкин.
— А заметочка ваша не пойдет! — с деланным весельем воскликнул секретарь.
— Почему же она не пойдет? — язвительно спросил Брыкин.
— Да помилуйте! Вы пишете, что начальник вокзала, на котором вы ночуете, купил своей жене новое пальто…
— Верно! Плюшевое пальто! Восемьдесят рублей выложил — тютелька в тютельку…
— Но какое нам с вами до этого дело?
— Значит, не пойдет?
— Не пойдет… к сожалению.
— Гм… Тогда дайте справку.
— Какую справку?
— Да вот, что не пойдет.
— Зачем же?
— Ладно. Скоро узнаете зачем. Тогда другое запоете. А то — не пойдет, не пойдет. Присосались тут к аппарату, бюрократы… Да уж ладно… Брыкин все знает. От него не вывернешься…
Поспешно уходя из редакции, мы слышали, как Брыкин говорил курьерше:
— …Уж такой я человек… Не могу молчать… Люблю правду-мат…
Где он теперь, неугомонный счетовод Брыкин? Где он, этот светлый идеалист на трудном, тернистом пути общественного деятеля? Какие пороги он обивает? В какие двери ломится? Уехал ли он уже из столицы или идет обратно по шпалам со станции «Нара-Фоминское»?.. Или, может быть, он сидит в приемной Калинина, дожидаясь, когда представится возможность прочесть всесоюзному старосте свои последние стихи?..
Кто знает!.. Кто знает!..
1927
— Молчать! — говаривал директор Козолуповского городского банка Уродоналов. — Молчать и не разговаривать! Кто здесь начальник? — Уродоналов здесь начальник! Кто здесь царь? — Уродоналов царь! Кто бог? — Уродоналов. Ясно.
Служащие банка ходили на цыпочках. Клиенты вообще старались не ходить.
— Что такое клиент? — Червь! Что такое бумажка? — Гранит! Какой гранит должен перегрызть клиент, чтобы получить ссуду? — Бумажный гранит. Уродоналов заливался звонким детским смехом. По спинам служащих пробегали противные холодные мурашки…
В дверь просунулось испуганное лицо курьера.
— Так что разрешите доложить — клиент просится. Шестой месяц, извините за выражение, приходит…
— А разве сегодня приемный день? — строго спросил Уродоналов.
— Так точно. Приемный-с, — прошептал курьер.
— Ну, значит, часы не приемные.
— И часы, простите, приемные. Часы эти от трех часов пятидесяти шести минут до четырех часов пяти минут, а сейчас ровно четыре.