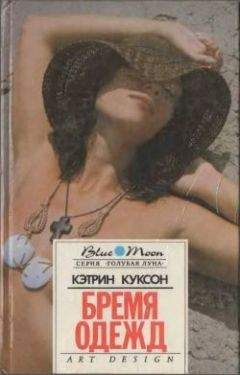Мы видели нахала в частной жизни.
Что же делает нахал на службе?
Да ничего не делает.
Таков нахал.
1927
Старый Дыркин был очень жилист и очень глуп, что, однако, не мешало ему служить младшим делопроизводителем в учреждении.
Глаза у старого Дыркина были рыбьи — мышиного цвета с голубизной. Уши от старости поросли мохом и двигались даже тогда, когда хозяин не выражал ни малейшего желания ими двигать. Нос был зловредный, с зеленоватым отливом. А лицо в общем и целом болезненно напоминало помятое и порыжевшее складное портмоне образца 1903 года.
Утром Дыркин встал пораньше и отправился в жилтоварищество.
— Что же это, господа товарищи! Этак и жить на свете больше не приходится, наложили на меня шесть гривен за сажень полезной площади. Я человек трудящий и никому не позволю. Раз ставка по разряду, ты, господин хороший, и бери по разряду, а то что же это получается!..
— Не волнуйтесь, гражданин Дыркин, — сказал секретарь, — мы сейчас все выясним. Так и есть. С вас полагается сорок копеек. Ошибка.
— Тоже… ошибка… Засели молокососы взрослых людей обирать — да еще путают. Небось старый хозяин не спутал бы.
Дыркин раздраженно плюнул и пошел на службу.
— Тоже учреждение! — ворчал Дыркин, записывая входящие номера. — Собакам на смех… Не то что при прежнем начальнике. Орел был!.. А теперь…
Дыркин пописал с полчасика и понюхал воздух.
— Опять накурено? — проскрипел он. — И вентилятор не работает. На что смотрит охрана труда?
Дыркин с негодованием бросил ручку и пошел в местком.
— Что же это, господа товарищи, почему такое, чтобы вентилятор не действовал во время исполнения обязанностей… Это даже довольно странно. Охрана труда, ау?!
— Простите, товарищ Дыркин, забыли починить. Сейчас исправим.
Через полчаса вентилятор приветливо зашумел.
— Тоже… Защитники выискались, — ворчал Дыркин, — вентилятора и того с толком поставить не могут…
Ровно в четыре часа Дыркин запер входящий журнал в шкаф и пошел в амбулаторию лечить зубы.
«Эх, — думал Дыркин, — все это не то. Вот при старом режиме…»
— Вы, извините, не имеете ни малейшего права задерживать в очереди трудящего человека! — визжал Дыркин в амбулатории.
— Не волнуйтесь, гражданин, — увещевала Дыркина сестра, — через час врач вас примет…
— Тоже… через час… И куда это только страхкасса смотрит, — горестно вздохнул Дыркин, — вот при старом режиме… Эх, да что говорить…
Дыркин с кошачьей ловкостью вскочил на подножку отходящего трамвая. Раздался свисток. Через минуту Дыркин, окруженный толпою зевак, стоял перед милиционером.
— Православные, — злобно кричал Дыркин, — убивают! Караул!..
— Что ж это вы, папаша, несоответственно выражаетесь, — укоризненно говорил милиционер, искренне сожалея, что милицейские правила ставят его в слишком узкие рамки «предупредительного отношения к гражданам», — это вы, папаша, зря. Платите, папаша, полтинник за неисполнение уличного движения, а вовсе вас никто не убивает.
— Православные, — захныкал Дыркин, — грабят бедного старичка среди бела дня! Спаси…
— Да ладно уж, — со вздохом сказал милиционер, — уходите, вредный старичок, исполняйте в другой раз правила…
— Тоже… сполняйте, — прошептал Дыркин побелевшими губами, — вот при старом режиме-то… Ах! И квартальный же был!.. Не квартальный — ангел был!.. Ах, царица небесная… Вспомнишь — слеза прошибет!..
Остаток дня старый Дыркин провел в воспоминаниях о близком его старому недоброкачественному сердцу — старом режиме. Заснул Дыркин, обливаясь слезами умиления…
Здесь автор должен заметить, что юбилейный фельетон (а настоящий фельетон — юбилейный) писать очень и очень трудно. Все сюжетные приемы уже использованы. Автор должен сознаться, что сперва он хотел посадить старого Дыркина на уэльсовскую «машину времени» и отвезти глупого старика в «старый режим», но потом вспомнил, что об этом уже писал некий современный фельетонист в один из предыдущих юбилеев. Автор долго мучился. Ему не хотелось так нагло обкрадывать собрата по перу. А посему автор решил воспользоваться очень простым приемом, который преемственно выкрадывается работниками печати друг у друга еще со времен древних греков.
Утром Дыркин встал пораньше и отправился в жилтоварищество.
— Что же это, господа товарищи, — начал Дыркин привычную речь и осекся.
На месте председателя сидел бывший хозяин, генерал Доппель-Кюммель, и курил сигару.
— Батюшки! Отец родной! — воскликнул Дыркин. — Неужто старый режим наступил? Ах ты господи!.. С праздничком вас, ваше высокопревосходительство.
— Молчать! — рявкнул генерал. — Вот я тебя, сукина сына!.. За десять лет с тебя за квартиру, стервь болотная, причитается. Восемь тысяч как одна копейка. Я т-тебя, рассукина рассына…
— Ребеночка крестили у меня, Маркела, — рискнул Дыркин, — крестные отцы-с…
— А вот я тебя к крестной матери сейчас!..
В учреждении действительный статский советник Бородавка, который в течение десяти лет революции с честью выполнял обязанности швейцара, увидев Дыркина, сообщил:
— Дыркин, Модест Ипатьевич, увольняется за выслугой лет. Уходи, старик, не люблю… Не благодари… Швейцар! Выведи его.
В амбулатории врач, поковыряв в зубах у Дыркина крючком, сказал:
— Можно пломбировать. Можно рвать. Приходите завтра… Мы еще гм, гм, посмотрим… Может, и нельзя будет рвать… А может быть, и можно…
— Так точно-с, — прошептал Дыркин, — премного благодарен. Прощевайте, господин доктор.
— А кто же мне заплатит деньги? — прищурился доктор.
— Я же по страхка…
Оставив весь наличный капитал в амбулатории, Дыркин, шатаясь от незаслуженных обид, побрел по улице.
— Э-е-е-э-п-п-п!!!
И Дыркин, опрокинутый лихачом, уже лежал на мостовой.
Когда Дыркин поднялся, потирая ушибленное плечо, перед ним стоял квартальный и зловеще улыбался.
— Отец родной! Ангел!.. — заплакал Дыркин.
— Осади!! — гаркнул городовой. — Почему скопление? Ты что здесь делаешь?
— Я-то? Батюшки! Ангел!.. Отец родной… — зашамкал Дыркин.
— Вот я тебя за общественное нарушение в часть сведу! — недружелюбно сказал городовой и ударил Дыркина тяжелым кулаком по морде.
Ночевал Дыркин в участке…
Дальше, как и следовало ожидать, когда Дыркин проснулся, он с удовольствием заметил, что лежит в своей постели…
Звонили юбилейные колокола.
1927
Хорошо ранней весной, когда пахнет фиалками и кошками, когда отвратительный вой трамваев становится похожим на вздохи эоловой арфы, когда наглое фырканье автомобилей превращается в переливы пастушеской свирели, а вопли газетчиков в шорох молодой листвы, и когда даже ответственные съемщики становятся похожими на людей…
Ранней весной медик Остап Журочка влюбился в педфаковку Катю Пернатову.
— Я человек холодный, — говаривал о себе Журочка с гордостью, — и любовных штук не понимаю.
А тут вдруг взял да и втрескался.
— Ну, что я нашел в этой дурехе? — терзался Остап, ворочаясь на твердых досках своего студенческого ложа. — И росту чепухового, и волосы какие-то серые, и глаза странные: не то синие, не то желтые… А главное — дура. Только и знает — хи-хи да хи-хи. Хаханьки ей все… Тьфу.
Медик отлично сознавал, что он несправедлив к Пернатовой, что вовсе ей не «хаханьки все» и что Пернатова девушка серьезная и начитанная. Сознавал, но боролся.
— Тоже, — злорадствовал медик, зарываясь головой в подушку, — к педагогической деятельности готовится, дура, а сама небось о женихах думает. Сама книжки читает и на диспуты бегает, а у самой одеколоны на уме. Знаем мы этих женщин…
Всю ночь провел Журочка в деятельной борьбе с обольстительным образом Пернатовой, а наутро выяснилось, что борьба окончена полным поражением и что он, Журочка, лежит на обеих лопатках.
— Что же теперь будет? — ужаснулся медик.
Любовь, как известно, не картошка. Ее не сваришь на стареньком примусе в ободранной кухне студенческого общежития. Любовь — штука тонкая и требует подхода.
Целую неделю страдал медик в одиночестве, но наконец не выдержал и рассказал о своих страданиях соседу по койке Кольке Дедушкину.
Колька упал на садовую скамейку, заменяющую ему постель, и долго дрыгал ногами. Потом сказал:
— Что же ты, дурак, намерен предпринять?
— Жениться! — твердо сказал Журочка.
— Ну, и женись, если, конечно, тебя привлекает именно этот не особенно удобный способ самоубийства.
— А вдруг она меня не любит? — испуганно прошептал Журочка.
— Да ты спроси ее! — посоветовал Дедушкин.
— Неудобно как-то… Взять вдруг и спросить: а вдруг обидится?
— А ты попробуй.