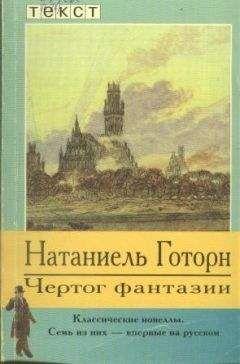— Ты — Вечный Жид! — воскликнул я.
Знаток поклонился с полнейшим безразличием: за несчетные века он притерпелся к своей судьбе и почти утратил ощущение ее необычности, так что едва ли сознавал, какое изумление и трепет она вызывает у тех, кому дарована смерть.
— Поистине ужасающая участь! — молвил я с неодолимым чувством и с искренностью, впоследствии для меня самого удивительной. — Однако же, быть может, горний дух еще не совсем угас под гнетом уродливой, оледенелой громады земной жизни. Быть может, дыханье Небес еще воспламенит сокровенную искру. Быть может, тебе еще будет дозволено умереть, прежде чем ты потеряешь жизнь вечную. Обещаю молиться о такой развязке. Прощай.
— Напрасны будут ваши молитвы, — отвечал он, усмехаясь с холодным торжеством. — Моя судьба крепко-накрепко связана с земной действительностью. Вольно вам обольщаться видениями и привидениями грядущего царства; а мне да останется то, что я могу видеть, осязать и понимать, и большего я не прошу.
«Да, все уже потеряно, — подумал я. — Душа в нем умерла!»
Содрогаясь от жалости и отвращенья, я протянул ему руку, и Знаток пожал ее все с той же привычной учтивостью светского человека, но без малейшего признака сердечной сопричастности общечеловеческому братству. Его касанье леденило — не знаю, кожу или душу. Напоследок он обратил мое внимание на то, что внутренние двери холла были облицованы пластинами слоновой кости, содранными с ворот, через которые Сивилла с Энеем удалились из царства мертвых.
Перевод В. Муравьева
От случая к случаю я, бывало, оказывался в некоем здании, отдаленно напоминающем столичную биржу. И попадал в мощенный белым мрамором пространный чертог, высокие своды которого опираются на длинные колоннады причудливого облика — подобия то ли мавританских руин Альгамбры, то ли какого-то волшебного дворца из арабских сказок. Огромные, величественные, искусно отделанные окна не имеют себе равных — разве что в средневековых готических соборах. Как и в них, небесный свет проникает сквозь мозаичные стекла, наполняя чертог многоцветным сиянием, и разрисовывает мраморные плиты дивными, порою гротескными узорами; так что здесь, можно сказать, полной грудью вдыхают видения и попирают стопами создания поэтического вымысла. Здесь царит сумбурная путаница стилей — античного, готического, восточного и неописуемого — мешанина, какой обычно не позволяет себе даже американский зодчий; и похоже, будто все это строение не более чем греза, которая вот-вот развеется, разлетится вдребезги, лишь топни ногою об пол. Однако ж со всеми доделками и переделками, каких потребуют грядущие века, Чертог Фантазии, пожалуй, переживет самые прочные сооружения, когда-либо бременившие землю.
Отнюдь не всегда открыт доступ в это здание, хотя почти всякий раньше или позже попадает туда — если не наяву, то во всепроникающем сне. Прошлый раз я забрел туда ненароком: был занят праздным сочинительством и вдруг, себе на удивленье, очутился посреди невесть откуда взявшейся толпы.
— Батюшки! Куда это меня занесло?! — воскликнул я, оглядываясь и что-то смутно припоминая.
— Ты в таком месте, — отозвался друг, возникший рядом, — которое в мире воображения столь же существенно, сколь Ди Берзе, Иль Риальто, а по-нашему Биржа существенны в коммерческом мире. Все, у кого есть дела за пределами действительности, в заоблачной, подземной или внеземной сфере, могут здесь встретиться, обсудить и взвесить свои грезы.
— Великолепный чертог, — заметил я.
— Да, — согласился он. — И ведь это лишь малая часть здания. Говорят, на верхних этажах есть залы, где земляне беседуют с обитателями Луны. А мрачные подвалы сообщаются с адскими пещерами: там заточенные чудища и химеры вкушают свою мерзостную пищу.
В нишах и на пьедесталах у стен виднелись статуи или бюсты былых повелителей и полубогов царства воображения и смежных с ним областей. Величавый древний лик Гомера; иссохшее, хилое тельце и оживленное лицо Эзопа; сумрачный Дант и неистовый Ариост; заядлый весельчак улыбчивый Рабле; Сервантес с его проникновенным юмором; несравненный Шекспир; мастер красочного и меткого иносказанья Спенсер; суровый богослов Мильтон и простецкий, но исполненный небесного огня Беньян — эти обличья бросились мне в глаза. Видные постаменты занимали Филдинг, Ричардсон и Скотт. Неприметная, укромная ниша приютила бюст нашего соотечественника, создателя Артура Мервина[78].
— Помимо этих несокрушимых памятников подлинному гению, — заметил мой спутник, — каждое столетие воздвигло статуи своих минутных любимцев, древесные изваяния.
— Да, я вижу кое-где их трухлявые останки, — сказал я. — Но должно быть, Забвенье время от времени дочиста подметает мраморный пол своей огромной метлой. По счастью, подобная судьба нимало не грозит вот этой прекрасной статуе Гете.
— Ни ей, ни соседнему с ней кумиру — Эмануэлю Сведенборгу[79], — подхватил он. — Рождались ли когда-нибудь два столь не схожих между собой властителя дум?
Посреди чертога бьет роскошный фонтан, и его струи создают и поминутно изменяют зыбкие водяные образы, переливающиеся всеми оттенками многоцветного воздуха. Невообразимую живость сообщает сцене этот волшебный струистый танец бесконечных преображений, подвластных прихотям фантазии зрителя. Рассказывают, что в этом фонтане и Кастальском ключе[80] — одна и та же вода; говорят еще, будто она сочетает дивные свойства Источника Юности и многих других волшебных родников, издревле прославленных в сказаньях и песнях. Сам я судить не берусь — никогда ее не пробовал.
— А тебе знаком вкус этой воды? — спросил я у друга.
— Случалось отведывать, — отвечал он. — Но есть такие, кто только ее и пьет, если верить молве. Известно также, что иной раз эта вода пьянит.
— Пойдем же поглядим на сих водохлебов, — сказал я.
И мы проследовали мимо причудливых колонн к сборищу близ громадного окна, осыпавшего разноцветными бликами людей и мраморный пол. Собрались большей частью лобастые мужчины с важной осанкой и глубокими, задумчивыми взорами; однако же веселость их прорывалась легче легкого, она сквозила в самых возвышенных и степенных размышлениях. Одни прохаживались, другие молча, уединенно стояли у колонн; на их лицах застыл восторг, будто они внимали нездешней гармонии или готовились излить душу в песне. При этом кое-кто из них, похоже, поглядывал на окружающих, как бы проверяя, замечают ли его вдохновенный вид. Некоторые оживленно разговаривали между собой, улыбаясь и многозначительно пересмеиваясь — по-видимому отдавая должное искрометному остроумию друг друга.
Иные беседовали о высоких материях, и глаза их излучали душевный покой и печаль, словно лунный свет. Я помедлил возле них — ибо испытывал к ним влечение сродства, скорее симпатическое, нежели духовное, — а друг мой назвал несколько небезызвестных имен: одни пребывают на слуху уж многие годы, другие с каждым днем все глубже укореняются в общем сознании.
— Бог с ними совсем, — заметил я своему спутнику, проходя далее по чертогу, — с этими обидчивыми, капризными, робкими, кичливыми и безрассудными собирателями лавровых венков. Творения их я люблю, но их самих век бы не встречал.
— Я вижу, ты заражен старинным предубежденьем, — отозвался мой друг, большей частью знакомый с этими личностями, сам будучи знатоком поэзии, не чуждым поэтического огня. — Но насколько я могу судить, даровитые люди отнюдь не обделены общественными достоинствами, а в наш век выказывают еще и сочувствие к другим, прежде у них неразвитое. По-человечески они требуют всего лишь равенства с ближними, а как авторы — отрешились от пресловутой завистливости и готовы к братским чувствам.
— Никто так про них не думает, — возразил я. — На автора смотрят в обществе примерно так же, как на нашу честную братию в Чертоге Фантазии. Мы считаем, что им среди нас делать нечего, и задаемся вопросом, по силам ли им наши повседневные заботы.
— Очень глупый вопрос, — сказал он. — Вон там стоит публика, подобную которой что ни день можно встретить на бирже. Но какой поэт здесь в чертоге одурачен своими бреднями больше, нежели самый рассудительный из них?
Он указал на кучку людей, которые наверняка оскорбились бы, скажи им, что они в Чертоге Фантазии. Лица их были изборождены морщинами, и в каждой из них, казалось, таился неповторимый жизненный опыт. Их острые, пытливые взгляды вмиг с деловою хваткой распознавали характеры и намерения ближних. С виду их можно было принять за достопочтенных членов Торговой палаты, открывших подлинный секрет богатства и вознагражденных фортуною за мудрость. Разговор их изобиловал достоверными подробностями, маскирующими сумасбродство так, что самые дикие замыслы имели обыденное обличье. И никто не удивлялся, слыша о городах, которые, словно по волшебству, возникнут в лесных дебрях; об улицах, которые проложат там, где нынче бушует море; о полноводных реках, русла которых будут перегорожены, дабы вращались колеса ткацких станков. Лишь с усилием — и то не сразу — припоминалось, что эти измышления столь же фантастичны, как стародавняя мечта об Эльдорадо, как Пещера Маммона и прочие золотоносные видения, возникавшие в воображении нищего поэта или романтического бродяги.