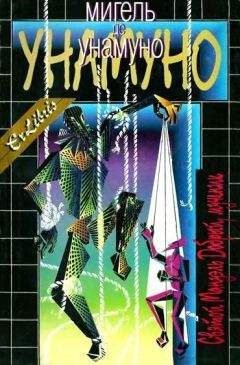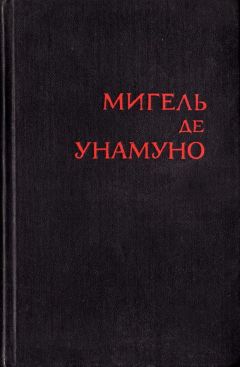– Но, дон Мануэль, заметьте, ведь когда они мне так сказали, они хотели сказать, что…
А он в ответ:
– Для нас не то должно быть важно, что нам хотят сказать, а то, что говорят, сами того не желая.
Жизнь он вел деятельную, а не созерцательную и всячески избегал безделья. Когда в его присутствии приводилось известное речение насчет того, что праздность, мол, мать всех пороков, он присовокуплял: «И наихудшего из них, а именно праздномыслия». И когда однажды я спросила, что он хочет этим сказать, он ответил: «Предаваться праздномыслию – значит предаваться размышлениям, чтобы ничего не делать, либо слишком много размышлять о том, что уже сделано, а не о том, что нужно сделать. Сделал дело – держи ответ смело, а сам за новое берись, потому что нет ничего хуже бесплодных угрызений». Уже тогда я хорошо поняла, что дон Мануэль избегает праздномыслия и дум в одиночестве, потому что его преследует какая-то мысль.
Поэтому он всегда был занят, и нередко – тем, что изобретал себе занятия. Для себя самого он писал очень мало, так что почти не оставил нам записей и заметок, зато был в письмоводителях у всех остальных, в первую голову – у матерей, когда им нужно было отписать детям, что были в отъезде.
Он и руками работал, помогал деревенским в их трудах. Когда наступала пора молотьбы, отправлялся на гумно, молотил и веял; с крестьянами же, которым помогал, вел разговоры, поучительные, а то и шутливые. Случалось, подменял хворых в работе. Раз как-то, а дело было зимой, и холодной, как никогда, встретил он мальчика, иззябшего до полусмерти: отец послал его привести домой корову, которая забрела далеко в лес.
– Знаешь что, – сказал он мальчику, – ступай-ка греться, а отцу скажешь: я сам все сделаю.
А когда дон Мануэль возвращался, ведя корову, он увидел отца этого мальчика: смущенный до крайности, тот шел его встречать. Зимою он колол дрова для бедных. Когда же высохло могучее ореховое дерево – «матриархальное», как он его называл, потому что играл под ним еще в ребячестве и много лет угощался орехами с этого дерева, – он попросил разрешения взять ствол себе, отнес домой и вытесал из него шесть досок, которые поставил у изножья своей кровати, а остатки распилил и расколол на дрова для бедных. Еще делал он парням мячи для игры в пелоту, а для ребятни всякие игрушки.
У него было в обычае навещать больных вместе с врачом, и он требовал, чтобы предписания врача исполнялись неуклонно. Всего более его занимало повивальное искусство и выкармливание детей, и он почитал величайшим богохульством обычные разговоры насчет того, что, мол, «помер сосунок – Богу ангелок» и «Бог прибрал, обуза с плеч». Он от всей души сокрушался, когда умирали дети.
– Мертворожденный младенец либо умерший тотчас после рождения, – сказал он мне как-то, – вот самая страшная тайна для меня: младенец, познавший крестную муку! И еще – самоубийство.
И раз было – покончил один самоубийством, и отец его, приезжий, спросил дона Мануэля, разрешит ли тот похоронить его сына в освященной земле, и дон Мануэль отвечал:
– Разумеется, ведь в последнюю минуту, в предсмертный час, он раскаялся, тут нечего сомневаться.
Частенько он наведывался в школу, помогал учителю, учил вместе с ним, и не только катехизису. Все потому, что избегал одиночества и праздности. До такой степени, что в летнюю пору со всеми деревенскими, а в первую голову с молодежью и ребятней, ходил посмотреть на пляски. И не раз случалось ему играть на тамбурине, пока парни с девушками плясали; у другого это казалось бы гротескным осквернением духовного сана, а у него получалось каким-то священнодействием, как бы частью богослужения. Звонили «Ангелус», он откладывал в сторону тамбурин, обнажал голову, а вслед за ним и все остальные, и читал молитву: «Ангел Божий возвестил Марии, радуйся, Мария…» – и затем говорил:
– А теперь на покой до утра.
– Самое главное, – говаривал он, – чтобы деревня была довольна, чтобы все люди были довольны тем, что живут на свете. Довольство жизнью главнее всего. Никто не должен желать себе смерти, покуда Бог ее не пошлет.
– А я вот желаю, – сказала в ответ одна женщина, недавно овдовевшая. – Я хочу быть там, где мой муж.
– Да зачем? – возразил дон Мануэль. – Оставайся здесь и молись Богу за упокой его души.
Как-то на свадьбе он сказал: «Эх, если бы мог я всю воду нашего озера превратить в вино, в эдакое легкое винцо: пьешь себе, пьешь и не хмелеешь, только пуще веселишься… или уж если охмелеешь, чтобы хмель был веселый!»
Раз как-то появилась в деревне труппа нищих циркачей. Возглавлял ее паяц, при нем была жена, тяжело больная да к тому же на сносях, и еще было трое детей; все они подыгрывали ему во время представления. Пока паяц выступал на деревенской площади, где смешил старых и малых, жена его, почувствовав сильнейшее недомогание, принуждена была удалиться; муж проводил ее взглядом, полным тревоги, а детвора – взрывом хохота. И еще проводил ее дон Мануэль; он повел ее до постоялого двора, где циркачи ютились в конюшне, и там, в углу, помог ей умереть во благе. И когда кончилось представление и вся деревня узнала, и паяц узнал, о беде, все отправились на постоялый двор, и бедный малый со слезами в голосе сказал: «Верно говорят про вас, сеньор священник, что вы настоящий святой», – и, подойдя к дону Мануэлю, он хотел поцеловать ему руку; но дон Мануэль опередил его и, взяв паяца за руку, проговорил в присутствии всей деревни:
– Это ты – настоящий святой, мой честный паяц; я видел тебя за работой и понял, что работаешь ты не только ради того, чтобы доставить хлеб своим детям, но еще и ради того, чтобы доставить радость детям других, и говорю тебе, что жена твоя, мать твоих детей, которую проводил я к Богу, покуда ты работал и приносил людям радость, опочила в мире, и ты встретишься с нею на небесах, и будет тебе платой смех ангелов, потому что ангелы небесные смеются от удовольствия, радуясь твоему искусству.
И все тут плакали, и стар и млад, плакали столько же от горя, сколько от непостижимого блаженства, в котором тонуло горе. И позже, вспоминая этот торжественный миг, я поняла, что невозмутимая жизнерадостность дона Мануэля была земной и преходящей формою бесконечной и вечной печали, которую с героической святостью он скрывал от людских ушей и глаз.
Эта постоянная его занятость, постоянная сопричастность трудам и радостям всей деревни, казалось, была для него средством уйти от самого себя, уйти от собственного одиночества. «Боюсь я одиночества», – твердил он. И все-таки иногда он совсем один шел берегом озера к развалинам старого аббатства, где словно и доныне пребывают души благочестивых цистерцианцев, прах которых почивает здесь, забытый историей. Там еще сохранилась келья настоятеля, его прозвали отец командир, и, говорят, на стенах кельи еще видны пятна крови, брызгавшей, когда он умерщвлял свою плоть. О чем размышлял там наш дон Мануэль? Доподлинно помню одно: как-то, когда зашел разговор об аббатстве, я спросила его, почему он не постригся в монахи, и он ответил:
– Вовсе не потому, что у меня на попечении вдовая сестра и племянники, нуждающиеся в помощи, ведь бедным – Бог опорой; а потому, что не рожден я ни отшельником, ни анахоретом, одиночество убило бы мою душу, а что касается монастыря, мой монастырь – Вальверде-де-Лусерна. Я не должен жить в одиночестве; я не должен умереть в одиночестве; я должен жить ради народа моей деревни и умереть ради народа моей деревни. Как спасу я собственную душу, если не спасу душу своего народа?
– Но ведь были же святые отшельники… – сказала я.
– Да, Господь ниспослал им благодать одиночества, в которой мне отказано, и я вынужден смириться. Не могу я утратить свой народ во имя спасения собственной души. Таким меня создал Бог. Я не мог бы противостоять искушениям пустыни. Не мог бы нести в одиночестве крест рождения.
В этих воспоминаниях, которыми жива моя вера, я хотела оставить портрет нашего дона Мануэля, каким он был, когда я, девчонка на шестнадцатом году, вернулась из ренадского монастырского пансиона в наш монастырь, что зовется Вальверде-де-Лусерна. И припала к стопам нашего настоятеля.
– Кого я вижу: дочка Симоны, – сказал он, увидев меня, – и совсем взрослая девица, и обучена болтать по-французски, и вышивать, и на пианино играть, и еще всяким разным премудростям! Ну, теперь готовься, глядишь, и появится в деревне еще одна семья. А брат твой Ласаро когда вернется? Он все еще в Новом Свете, верно?
– Да, сеньор, все еще в Америке…
– Новый Свет! А мы – в Старом. Так вот, будешь ему писать, передай, что я, то бишь священник, хотел бы знать, когда вернется он из Нового Света к нам в Старый и привезет мне тамошние новости. И передай, что гору и озеро найдет он такими же, какими оставил в день отъезда.