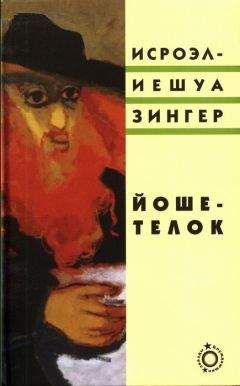Его мать, рахмановская ребецн, модно одетая, в шляпе с перьями, как барыня, подошла к юноше и маленьким кружевным платочком отерла пот с его лица — так нежно, как будто он был не женихом, а малым ребенком.
— Нохемче, — сказала она, — дай мне Боже все твое горе, дитя мое.
Хасиды хорошо расслышали эти слова; они почувствовали себя оскорбленными. Их возмутил гойский наряд ребецн, какого в Нешаве не то что в семье ребе, а и среди простых людей не увидишь, а еще больше их возмутило ее обращение с женихом.
«Литваки», — подумали галицийские евреи; для них все, кто по ту сторону границы, — литваки[41].
На миг у них даже мелькнула гневная мысль о Нешаве, обручившейся с Россией. Но они молчали, потому что думали: наверное, так надо.
Один только кучер потянул себя за усы, окинул жениха взглядом знатока и во весь голос высказал свое мнение о нем.
— То dopiero narzeczony[42], — сказал он кондукторам и носильщикам, покачивая головой, — такой молоденький, мамаше придется помогать ему штаны расстегивать.
— Ха-ха-ха! — рассмеялись гои, расхохотались громко, от души; их смех напоминал треск рассохшихся бочек в жаркий день. Гулкий смех прервало пение «казаков».
— «Эйн келойкэйну, — пели „казаки“, — эйн кемалкейну»[43].
Весь долгий летний день жених и невеста постились.
На Сереле, невесте, пост никак не сказался. Она была голодна, но безмятежна. Никакие тревоги не омрачали ее настроения.
На протяжении всей помолвки Сереле держалась спокойно, делала то, что от нее требовалось, как будто была не юной невестой, а девицей-перестарком, которая на склоне лет собралась замуж. Спокойно, даже не спросив ничего о женихе, она выслушала от отца новость о том, что ей предстоит стать невестой сына Рахмановского ребе. Спокойно приняла свадебные подарки, которые ей прислали в шкатулках, обитых атласом.
— Ой, какие красивые! — только и сказала она.
С точно таким же спокойствием Сереле выслушала сестер — обрюзгших баб, дочерей ребе от предыдущих браков, — которые принялись разучивать с ней главные обязанности невесты, когда до свадьбы оставались считанные дни.
Они разговаривали с юной девушкой очень таинственно, всячески намекая на новые женские обязанности и заповеди, так, чтобы четырнадцатилетняя невеста не смутилась.
— Сереле, — говорили они, — нам, женщинам, Тору учить не надо. Всевышний дал ее только мужчинам. Но зато мы должны исполнять собственные обязанности и заповеди, а это так же хорошо, как учить Тору.
Они приводили примеры из жизни святых праматерей: Сарры, Ревекки, Рахили и Лии, подбирали самые изысканные слова, лишь бы Сереле не застыдилась. Но это было ни к чему.
Крупная, рослая, дородная Сереле выполняла все обряды просто, без затей. Стыдливый румянец ни разу не покрывал ее полных щек, улыбка ни разу не озаряла ее холодных глаз. Ею владело спокойствие — спокойствие женщины, которая готовится к новой жизни с чувством долга и уверенностью.
В ночь перед свадьбой она все так же спокойно отправилась в микву при дворе ребе; ее вели туда все сестры, благотворительницы и всякая мелкая шушера, под пронзительный аккомпанемент городского оркестра. Сестры с завистью смотрели на молодое, крепкое девичье тело, на ее созревшие бедра и грудь и сплевывали:
— Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить…
Они угощали ее апельсинами, всякими лакомствами, которые обычно дают невестам, поскольку те слабеют от воды и утомительных ритуалов.
— Ешь, невеста, — говорили они, — у тебя, верно, уже под ложечкой сосет.
Но она в этом не нуждалась. Она чувствовала себя хорошо и была полна сил.
Так же степенно Сереле встретила банщицу[44], которая пришла обрить ей голову.
В Нешаве невестам бреют голову не наутро после свадьбы, а прямо в день свадьбы. Сестры повели Сереле с собой, чтобы подготовить ее. Еще с девических лет, которые женщины так любят хранить в памяти, они запомнили свой страх перед бритьем. Поэтому они вдруг принялись гладить Сереле по голове, перебирать ее густые волосы, заплетать их в косы и отпускать комплименты.
— Какой густой лес, — говорили они с таинственной интонацией замужних женщин, которые, заплетая невесте косы, вспоминают свое первое счастье и последующее увядание, — пусть он пойдет в жертву, Сереле, как первый урожай, что евреи в Иерусалиме отдавали Господу.
Но для Сереле никакого урожая не существовало. Она просто знала, что так надо, и исполняла эту обязанность, как и все прочие. Банщица не могла нахвалиться ее набожностью и праведностью.
— Такая чистая душа, — говорила она, макая медовую коврижку в выставленную ей водку, — чтоб ее сыночек сиял так же, как сияют ее румяные щечки, чтоб его небеса так же любили.
Большими ножницами она остригла Сереле волосы — криво, оставляя неровные пряди, а потом, сверкнув лезвием бритвы, принялась скрести остриженную девичью голову, пока та не стала похожа на голову овцы.
— В добрый час! В добрый час! — поздравили Сереле сестры и покрыли ее голову, ставшую совсем маленькой, белым атласным платком.
— В добрый час! — ответила Сереле, завязывая кончики платка под подбородком, словно женщина в летах.
Банщица ходила от сватьи к сватье, собирая деньги за стрижку.
— Мне по крейцеру за волос, — сказала она, подходя к невесте, — а тебе, с Божьей помощью, — обрезание сына…[45]
— Если будет на то воля Божья, — и вашим дочерям того же, — ответила Сереле без всякого смущения.
Позже она точно так же, без всякого смущения, сидела в невестиной комнате и учила обязанности невесты по молитвеннику «Корбн Минхе»[46] в переплете из слоновой кости с золотым замочком.
— «Она должна охотно соединяться с мужем, — читала она нараспев, на мотив тхины[47], — и не причинять ему, Боже упаси, никаких огорчений, а, напротив, выказывать ему любовь и с готовностью исполнять это богоугодное дело, согласно заповеди и обычаю, чтобы у них, с Божьей помощью, родились сыновья…»
А вот Нохемче, жених, был далеко не спокоен.
Весь долгий летний день и часть ночи перед свадьбой он провел в тяжких мучениях. Он целые сутки ехал в поезде из Рахмановки через границу в Нешаву. Жених нуждался в отдыхе. Но его ни на минуту не оставляли в покое. Сначала люди пришли поприветствовать его. На свадьбу приехали тысячи гостей, и каждому из них он должен был пожать руку и сказать «здравствуйте». Рука у Нохемче сразу же разболелась. В горле пересохло.
Когда гости разошлись, тесть, Нешавский ребе, пригласил его зайти и долго продержал у себя. Ребе уже успел несколько раз за этот день выпить водки с приезжими хасидами и закусить медовой коврижкой. Он был не пьян, но немного навеселе. Ему хотелось разговаривать, много разговаривать. Он тараторил, проглатывая слоги, да к тому же тянул гласные, как это водится у галицийских ребе, и рахмановец Нохемче не понимал почти ни слова. Кроме того, реб Мейлеху хотелось показать жениху свою ученость. Он помнил толкование к Писанию, которое произнес перед гостями на своей первой свадьбе лет пятьдесят тому назад, и теперь пересказал его Нохемче с начала до конца[48]. От этого он сам пришел в дикий восторг, схватил юношу за подбородок, словно у того уже была борода, хлопал в ладоши, наседал на Нохемче, толкал его в бока, брызгал слюной, раз за разом повторяя одно и то же:
— Понимаешь ты или нет? А, где тебе…
При этом он дымил ему в глаза крепким сигарным табаком. Дым отзывался горечью в пустом желудке юноши. Тот задыхался, кашлял. Но тесть не слышал его кашля. Он вообще никогда никого не слышал, кроме себя самого, сам говорил и сам же запальчиво отвечал.
— Понимаешь… понимаешь? А, где тебе… — скороговоркой бурчал он из-под всклокоченной бороды и усов.
Едва Нохемче вышел из комнаты тестя, как его встретили сыновья ребе, такие же напористые и тупые, как и их отец, и стали водить жениха из комнаты в комнату. Всюду, куда братья заходили, они пили водку за здоровье друг друга, ели медовые коврижки, а о посте жениха даже думать не думали.
— Будьте здоровы, да придет радость для всех евреев, — желали они Нохемче и долго трясли его руку.
К тому же в комнате одного из сыновей ребе к жениху прицепился юноша — молодое дарование, светило нешавских хасидов, — который хотел показать свою ученость. Это был парень с придурью, диковатый малый; было в нем что-то козлиное. Даже своими движениями, своей вечной манерой бодать воздух лбом, задавая каверзный вопрос, он напоминал козла. Его всклокоченные пейсы стояли торчком, как рога.
Юноша имел обыкновение отвечать на все словами «с другой стороны»: «С другой стороны, можно утверждать обратное…»