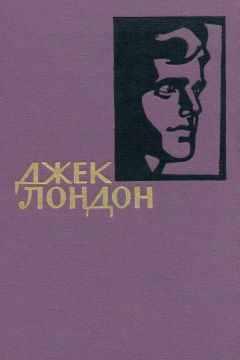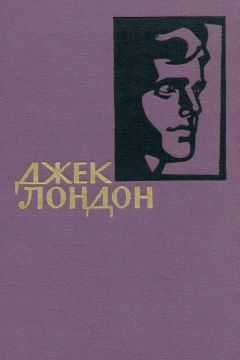Через час оба блока сошлись у вершины стрелы. Дальше поднимать было некуда, а мачта все еще не перевалилась через борт. Основанием своим она легла на планшир левого борта, в то время как верхушка ее нависала над водой далеко за правым бортом. Стрела оказалась коротка, и вся моя работа свелась к нулю. Но я уже не приходил в отчаяние, как прежде. Я начинал обретать все большую веру в себя и в потенциальную силу брашпилей, стрел и подъемных талей. Способ поднять мачту, несомненно, существовал, и мне оставалось только найти его.
Пока я размышлял над этой задачей, на ют вышел Волк Ларсен.
Нам сразу бросилось в глаза, что с ним творится что-то неладное. Во всех его движениях еще сильнее чувствовалась какая-то нерешительность, расслабленность. Проходя вдоль рубки, он несколько раз споткнулся, а поравнявшись с краем юта, сильно пошатнулся, поднял руку уже знакомым мне жестом,— словно смахивая паутину с лица,— и вдруг загремел по ступенькам вниз. Широко расставив руки в поисках опоры, он, шатаясь, пошел по палубе и остановился, покачиваясь из стороны в сторону, у люка кубрика охотников. Потом ноги у него подкосились, и он рухнул на палубу.
— Припадок! — шепнул я Мод.
Она кивнула мне, и я снова прочел сострадание в ее взгляде.
Мы подошли к Волку Ларсену. Он, казалось, был без памяти и дышал судорожно, прерывисто. Мод сейчас же взялась за дело — приподняла ему голову, чтобы предотвратить прилив крови, и послала меня в каюту за подушкой. Я прихватил и одеяла, и мы постарались устроить больного поудобнее. Я нащупал его пульс. Он бился ровно — не часто и не слишком слабо, словом, совершенно нормально. Это удивило меня и показалось мне подозрительным!.
— А что, если он притворяется? — спросил я, не выпуская его руки.
Мод покачала головой и посмотрела на меня с упреком. И в ту же секунду рука Волка Ларсена выскользнула из-под моих пальцев и словно в стальных тисках сдавила мое запястье. Я дико вскрикнул от неожиданности и испуга. Злорадная гримаса исказила его лицо, и больше я уже ничего не видел,— другой рукой он обхватил меня и притянул к себе.
Он отпустил мое запястье, но при этом так сдавил меня, обхватив за спину, что я не мог шевельнуться. Свободной рукой он схватил меня за горло, и в это мгновение я испытал весь ужас и всю горечь ожидания смерти — смерти по собственной вине. Как мог я подойти так близко к его страшным ручищам? Вдруг я ощутил прикосновение других рук — Мод тщетно пыталась оторвать от моего горла душившую меня лапу. Поняв, что это бесполезно, она отчаянно закричала, и у меня похолодело сердце. Мне был знаком этот душераздирающий вопль, полный ужаса и отчаяния. Так кричали женщины, когда шел ко дну «Мартинес».
Лицо мое было прижато к груди Волка Ларсена, и я ничего не мог видеть, но слышал, как Мод побежала куда-то по палубе. Все произошло с молниеносной быстротой, но мне показалось, что протекла вечность. Сознание мое еще не успело померкнуть, когда я услышал, что Мод бегом возвращается обратно, и в то же мгновение почувствовал, как тело Волка Ларсена подалось назад и обмякло. Дыхание с шумом вырывалось из его груди, на которую я налегал всей своей тяжестью. Раздался сдавленны стон; был ли то возглас бессилия, или его просто исторгло удушье — не знаю, но пальцы, вцепившиеся мне в горло, разжались. Я глотнул воздух. Пальцы дрогнули и снова сдавили мне горло. Но даже его чудовищная сила воли уже не могла преодолеть упадка сил. Воля сдавала. Ларсен терял сознание.
Шаги Мод звучали у меня над самым ухом. Пальцы Ларсена в последний раз стиснули мое горло и разжались совсем. Я откатился в сторону. Лежа на спине, я хватал воздух ртом и моргал от солнечного света, бившего мне прямо в лицо. Я отыскал глазами Мод; она была бледна, но внешне спокойна и смотрела на меня со смешанным выражением тревоги и облегчения. Я увидел у нее в руке тяжелую охотничью дубинку. Заметив мой взгляд, Мод выронила дубинку, словно она жгла ей руку, у меня же сердце исполнилось ликованием. Вот она — моя подруга, готовая биться вместе со мной и за меня, как бились бок о бок со своими мужчинами женщины каменного века! Условности, которым она подчинялась всю жизнь, были забыты, и голос инстинкта, не заглушенный до конца изнеживающим влиянием цивилизации, властно заговорил в ней.
— Родная моя! — воскликнул я, с трудом поднимаясь на ноги.
В следующую секунду она была в моих объятиях и судорожно всхлипывала, припав к моему плечу. Прижимая ее к себе, я смотрел на ее пышные каштановые волосы; они сверкали на солнце, словно драгоценные камни, и затмевали в моих глазах все сокровища земных царей. Я нагнулся и нежно поцеловал их, так нежно, что она и не заметила.
Но я тут же заставил себя трезво взглянуть на вещи. Естественно, что Мод, как истая женщина, после пережитой опасности проливала слезы облегчения в объятиях своего защитника, чья жизнь, в свою очередь, была под угрозой. Будь я ей отцом или братом, положение ничуть бы не изменилось. К тому же сейчас было не время и не место для любовных признаний, и я хотел прежде заслужить право говорить ей о своей любви. Поэтому я только нежно поцеловал еще раз ее волосы, чувствуя, что она высвобождается из моих объятий.
— Вот теперь припадок непритворный,— сказал я.— После одного из таких припадков он и потерял зрение. Сегодня он сперва притворялся и, быть может, этим и вызвал приступ.
Мод уже начала поправлять ему подушку.
— Постойте,— сказал я.— Сейчас он беспомощен и таким должен оставаться и впредь. Теперь мы займем кают-компанию, а Волка Ларсена поместим в кубрике охотников.
Я взял его под мышки и потащил к трапу, а Мод по моей просьбе принесла веревку. Обвязав его веревкой под мышками, я спустил его по ступенькам в кубрик. У меня не хватало сил положить его на койку, но с помощью Мод мне удалось сперва приподнять верхнюю часть его туловища, а потом я закинул на койку и его ноги.
Но этим нельзя было ограничиться. Я вспомнил, что у Волка Ларсена в каюте хранятся наручники, которыми он пользовался вместо старинных тяжелых судовых кандалов, когда ему нужно было заковать провинившегося матроса. Мы разыскали эти наручники и сковали Ларсена по рукам и ногам. После этого, впервые за много дней, я вздохнул свободно. Выйдя на палубу, я испытал чувство необычайного облегчения — у меня словно гора с плеч свалилась. Я чувствовал также, что все пережитое нами нынче еще больше сблизило меня с Мод, и, направляясь вместе с ней к стреле, на которой теперь уже висела фок-мачта, мысленно спрашивал себя, ощущает ли Мод эту близость так, как я.
Мы тут же перебрались на шхуну и заняли свои прежние каюты. Пищу мы теперь готовили себе в камбузе. Волк Ларсен попал в заточение как нельзя более вовремя. Последние дни в этих широтах стояло, как видно, бабье лето, и теперь оно внезапно пришло к концу, сменившись дождливой и бурной погодой. Но мы на шхуне чувствовали себя вполне уютно, а стрела с подвешенной к ней фок-мачтой придавала всему деловой вид и окрыляла нас надеждой на отплытие.
Теперь, когда нам удалось заковать Волка Ларсена в в наручники, это оказалось уже ненужным. Второй припадок, подобно первому, вызвал серьезное нарушение жизненных функций. Мод обратила на это внимание, когда пошла под вечер накормить нашего пленника. Он был в сознании, и она заговорила с ним, но не добилась ответа. Он лежал на левом боку и, казалось, очень страдал от боли. Левое ухо его было прижато к подушке. Потом беспокойным движением он повернул голову вправо, и левое ухо его открылось. Только тут он услышал слова Мод, что-то ответил ей, а она бросилась ко мне рассказать о своем наблюдении.
Прижав подушку к левому уху Ларсена, я спросил его, слышит ли он меня, но ответа не получил. Убрав подушку, я повторил свой вопрос, и он тотчас ответил.
— А вы знаете, что вы оглохли на правое ухо? — спросил я.
— Да,— отвечал он тихо, но твердо.— Хуже того, у меня поражена вся правая сторона тела. Она словно уснула. Не могу пошевелить ни рукой, ни ногой.
— Опять притворяетесь? — сердито спросил я.
Он отрицательно покачал головой, и странная, кривая усмешка перекосила его рот. Усмешка была кривой потому, что двигалась только левая сторона рта,— правая оставалась совершенно неподвижной.
— Это был последний выход Волка на охоту,— сказал он.— У меня паралич, я больше не встану на ноги... О, поражена, только та нога, не обе,— добавил он, словно догадавшись, что я бросил подозрительный взгляд на его левую ногу, которую он в эту минуту согнул в колене, приподняв одеяло.
— Да, не повезло мне! — продолжал он.— Я хотел сперва разделаться с вами, Хэмп. Думал, что на это у меня еще хватит пороху.
— Но почему? — спросил я, охваченный ужасом и любопытством.
Его жесткий рот опять покривился в усмешке, и он сказал: