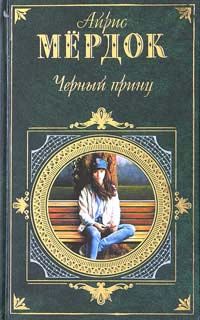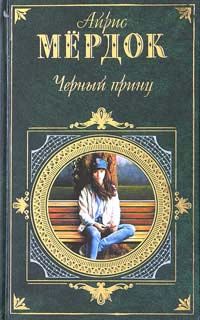Почему он это сделал? Теперь он мертвец. Он умер в этой тесной кухне, сидя на полу рядом с Кэтелом, отсчитывая медлительные часы и минуты своего распада. Образы обеих женщин, Франсис и Милли, поблекли и сошли на нет, он едва помнил, кто был рядом с ним, когда зазвонили в церкви. Колоссальным, непоправимым и нестерпимым было другое — потеря чести. Его убили в этой тесной кухне так же верно, как если бы пырнули ножом. Почему он уступил, дал им погубить себя?
И, мысленно отвечая на этот вопрос, Эндрю уже знал, что ответ неправильный, что нет и не может быть оправданий для его ужасающего поступка. Когда Милли, прижав его коленом к стене чулана, шепотом рассказала, что была в неких отношениях со своим братом, его отцом, и что существуют письма, подтверждающие это, он в первую секунду ей не поверил. Потом, пока она шептала ему в ухо, что, если он не согласится, эти письма перешлют его матери, все затопила жалость к Хильде и как будто принесла облегчение, не оставив иного выбора, кроме как защитить ее. Такая новость могла задним числом отравить ей всю жизнь, до самых корней. О том, чтобы пытаться перехитрить Милли, нечего было и думать — он не мог рисковать, он обязан уберечь мать от этих безобразных разоблачений. И он сдался.
Теперь он был волен во всем сомневаться. Первая его мысль была о матери — и он поверил. Вторая мысль была о себе — и веры не стало. Неужели могло случиться в прошлом нечто такое ужасное, такое, как он теперь почувствовал, оскорбительное для него самого? Может, и есть какие-то письма, но еще не сказано, что они так уж важны или не могут быть истолкованы как совершенно безобидные. Может, Милли не захотела бы, а то и не смогла бы выполнить свою угрозу. А может, она с дьявольской находчивостью просто все выдумала, чтобы припугнуть его. Попозже надо будет зайти на Верхнюю Маунт-стрит и узнать. А потом явиться по начальству в Лонгфорд.
Но мысль о Лонгфорде и своем бесчестье увела его глубже. Независимо от всего остального он должен был тогда сразиться с Патом. Должен был презреть револьвер Пата и драться голыми руками. Пат не убил бы его. А если б и убил, все было бы лучше, чем эта, иная смерть. Когда Пат улыбнулся и сказал: «Иначе ты и не мог ответить», они были близки, так близки, как никогда в жизни. В ту минуту их связывали узы благородства, взаимного уважения. Но Эндрю только упомянул о своем долге. А нужно было его выполнить. Нужно было драться тут же, в кухне, собрав все свои силы и мужество. То была встреча, к которой он готовился всю жизнь. Он любил Пата Дюмэй, любил всегда. Схватиться с Патом, не задумываясь об исходе схватки, пусть даже смертельном, было бы последним, лучшим проявлением его любви. Но именно потому, что он всегда обожествлял Пата, пружина в нем сдала. Он не сумел пробудить в себе ту великолепную силу воли, которая бросила бы его, как борца на арене, в объятия Пата. Он опозорил свой мундир, и этого позора не забыть, не загладить никакими будущими подвигами. Сделал он это в конечном счете из-за Пата и ради Пата; сделал то единственное, за что Пат никогда не перестанет его презирать.
Эндрю очнулся — оказалось, что он все еще держит Кэтела за руку. Он взглянул на Кэтела. Лицо у мальчика было отрешенное, покрасневшее, залитое слезами. Эндрю почувствовал, что и сам сейчас расплачется. Он сказал:
— Пойдем, Кэтел, надо найти кого-нибудь, кто бы снял с нас эту штуку. Ты не посоветуешь, куда нам пойти?
Он снова потянул мальчика за собой, подальше от грозной, зловещей пустоты Сэквил-стрит.
Они шли рядом, а навстречу им со всех сторон спешили люди, еще и еще, и в солнечном воздухе звучали голоса, теперь громче, увереннее, уже не так удивленно:
— С ума они, что ли, сошли?
— К Святой Троице повезли пушки.
— Канонерку двинули вверх по реке, будут выбивать их оттуда шрапнелью.
— Дай-то Бог, чтобы у них был там священник.
— Дураки несчастные, да поможет им теперь Бог и Пресвятая Матерь его.
— Что ни говори, такого дня Ирландия еще не знала.
«Блессингтон-стрит, апрель 1938 г.
Милая Франсис!
Не писала тебе целую вечность, но я совсем сбилась с ног — и общественных обязанностей много, и дом нужно было приготовить для новых жильцов, как будто все и пустяки, а минуты свободной не остается. Джинни, конечно, золото, а ее сын покрасил мне кухню и чулан, очень работящий, порядочный юноша, таких в наше время поискать. Надеюсь, что с новыми жильцами все пойдет хорошо. К прежним я прямо-таки привязалась, мы с ними жили одной большой семьей. Но думаю, что скоро привяжусь и к новым. Не помню, писала ли я тебе, что один из них, тот, что снял обе комнаты наверху, такой симпатичный, был майором в английской армии.
Ты меня порадовала тем, что пишешь о своей семье. До чего же быстро растут дети, как подумаешь, что они у тебя почти взрослые, сразу чувствуешь себя старухой. Да что ж, время никого не щадит, а у меня еще, благодарение Богу, и здоровье, и силы есть, не то что у бедной Милли. Сейчас ей много лучше, но уж такой, как до операции, она не будет. Я тебе, кажется, писала, что забрала ее из того сырого дома на Эклз-стрит, и теперь у нее премиленькая комната на Драгл-роуд, это возле Друмкондра-роуд. В том же доме живет еще много старичков, они все называют ее „миледи“, а она за это угощает их виски! Я тут на днях водила ее завтракать к Джаммету, и там один лакей узнал ее и сказал, что она ничуть не изменилась, ей, бедняжке, так было приятно, хотя, видит Бог, это неправда. И она стала рассказывать этому лакею про пасхальную неделю на мельнице Боланда, она там, конечно, вела себя геройски, все время перевязывала раненых, но теперь она говорит очень громко, потому что стала туга на ухо, и весь ресторан ее слушал и отпускал замечания, так что я просто не знала, куда деваться. А потом она замучила меня разговорами о Барни, какой он был хороший и как она без него скучает, и мы обе совсем расстроились. Просто не верится, что уже десять лет прошло, как Барни скончался, царство ему небесное.
Когда же вы соберетесь сюда? На Блессингтон-стрит вам всем нашлось бы место. В гостиной остался прежний большой диван, а один из мальчиков мог бы спать на складной кровати. Как было бы хорошо поговорить, вспомнить прошлое. Я бы тебе показала альбом с любительскими снимками, я его недавно нашла, там на одном твой покойный отец в этой своей непромокаемой шляпе, ты ее, наверно, помнишь. А на другом снимке — Хильда в „Клерсвиле“, хорошенький был домик, она в нем почти не пожила, такая жалость. Дети у тебя теперь все в школе, может быть, навестишь нас одна, если с семьей не удастся. Этим летом, говорят, будет страшная жара, а уж как Милли была бы рада твоему приезду, она вечно о тебе справляется. Побывали бы во всех знакомых местах, Кингстаун все такой же, я никак не привыкну называть его Дун-Лейре, и Сэндикоув бы посмотрели, и пляжи. Я там на той неделе была, прошла мимо „Фингласа“ и в сад заглянула. Старые красные качели так и висят. Помнишь старые качели и как бедный Эндрю тебе их починил, уж он так старался! А дом покрасили в розовый цвет, очень некрасиво, да еще переименовали в какую-то „Горную вершину“, совсем уж глупо, он и стоит-то не на верху горы. А кто там живет после Портеров, не знаю. По-моему, какието англичане.
Ну, пора кончать письмо, нужно заняться бельем. Передай поклон твоим, да приезжайте вы все летом на Изумрудный остров,[50] и „будем минувшее вспоминать до самой до зари“, как в песне поется!
Нежно любящая тебя
Кэтлин
P. S. Послала тебе мясной пудинг. Салфетку не разворачивай, вари прямо в ней два часа».
* * *
— От кого это тебе такое толстенное письмо? — спросил у Франсис ее длинноногий сын.
— От Кэтлин.
— Жалуется, как всегда? — спросил у Франсис ее муж, англичанин.
— Не особенно.
— Надо полагать, зовет нас в гости?
— Она всегда зовет нас в гости.
— Что ж, съезди. А меня ты туда больше не заманишь.
— Да мне не так уж и хочется туда ехать, — сказала Франсис.
Ее муж, как всегда после утреннего завтрака, стал складывать газету, аккуратно, с таким расчетом, чтобы плоский пакет удобно вошел в портфель. На сгибе Франсис успела прочесть заголовок: «Франко угрожает Барселоне». Она глянула в лицо своему длинноногому сыну и сейчас же отвела глаза. С тех пор как лучший друг ее сына записался в Интернациональную бригаду, она жила в неотступном страхе.
— Что новенького у твоей ирландской родни? — спросил, сын.
Дети всегда говорили о ее «ирландской родне». Самих себя им и в голову не приходило считать наполовину ирландцами. Они и ее-то не считали ирландкой. В Ирландии они были четыре раза и больше туда не стремились.