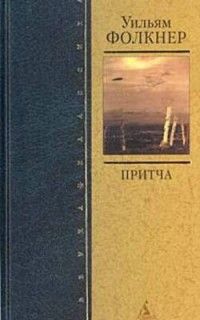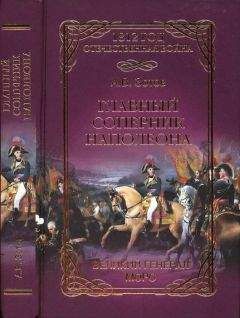— Расскажите им. Расскажите и как он получил медаль. Мы теперь добиваемся не снисхождения, и даже не сострадания, а милосердия — если оно существует и если он его примет. — Повернулся и направился к маленькой двери: в это время она открылась, и адъютант, выводивший арестованного, застыл возле нее навытяжку, дожидаясь, пока старый генерал выйдет, потом вышел за ним и прикрыл дверь.
— Да? — сказал старый генерал.
— Женщины в кабинете де Монтиньи, — доложил адъютант. — Младшая француженка. Одна из старших — жена француза, фермера…
— Я знаю, — сказал старый генерал. — Где находится эта ферма?
— Находилась, — ответил адъютант. — Возле деревни Вьенн-ла-Пуссель, к северу от Сен-Мишеля. Эта местность была эвакуирована в 1914 году. В понедельник утром Вьенн-лаПуссель находилась за немецкой линией фронта.
— Значит, ни она, ни ее муж не знают, цела ли их ферма, — сказал старый генерал.
— Нет. — ответил адъютант.
— Так, — сказал старый генерал. Потом произнес: — Да?
— Автомобиль из Вильнев-Блан только въехал во двор.
— Хорошо, — сказал старый генерал. — Засвидетельствуй гостю мое почтение и проводи ко мне в кабинет. Подай ему туда ужин и попроси, чтобы он принял нас через час.
Кабинет адъютанта был сооружен плотниками из угла, или в углу, бывшего бального зала, впоследствии зала судебных заседаний. Адъютант заглядывал туда ежедневно и, очевидно, входил хотя бы раз в день, потому что в углу, на вешалке, висели его фуражка, шинель и очень красивый лондонский складной зонт, рядом с фуражкой и шинелью столь же неожиданный и парадоксальный, как веер или «домино», потом становилось ясно, что он вполне мог находиться там по той же причине, что и два других предмета, вполне достойных внимания: две бронзовые статуэтки, стоящие по краям пустого стола: изящная взбешенная лошадь, невесомо стоящая на одной ноге, и голова сонного дикаря, не сформованная и отлитая, а вырезанная вручную Годье-Бржеской. Больше в комнате ничего не было, кроме деревянной скамьи, стоящей у стены напротив стола.
Когда старый генерал вошел, на скамье сидели три женщины, старшие по бокам, младшая посередине; пока он шел к столу, еще не глядя на них, младшая быстро, почти конвульсивно встрепенулась, словно порываясь встать, но одна из старших одернула ее. И снова они сидели неподвижно, не сводя с него глаз, а он прошел за стол, сел и взглянул на них — суровое, благородное лицо горянки, до того похожей на капрала, что, если бы не разница в возрасте, их можно было бы принять за близнецов, спокойное, безмятежное лицо ее сестры, отмеченное всеми возрастами или никаким, и напряженное, измученное лицо сидящей посередине младшей. Затем, будто по сигналу, словно для соблюдения приличий, подождав, когда он тоже сядет, спокойная — она держала на коленях корзинку, аккуратно покрытую чистой тряпицей, — заговорила.
— Как бы там ни было, я рада видеть вас, — сказала она. — Вы похожи в точности на того, кто вы есть.
— Мария, — сказала другая старшая.
— Не стыдись, — сказала первая. — Плохого в этом нет. Нужно быть довольной, потому что очень многие не могут его увидеть.
Она стала подниматься. Другая снова сказала:
— Мария, — и даже хотела удержать ее, но первая направилась к столу с корзиной, поднимая на ходу вторую руку, будто собираясь достать что-то оттуда, потом протянула руку и положила на стол. В руке была длинная железная ложка.
— Такой славный молодой человек, — сказала она. — Как вам не стыдно. Послали его всю ночь бродить по городу с солдатами.
— Прогулка пойдет ему на пользу, — сказал старый генерал. — Здесь ему не хватает свежего воздуха.
— Могли бы сказать ему.
— Я вовсе не говорил, что ложка у вас. Я только сказал, что, думаю, вы могли бы выложить ее, когда понадобится.
— Вот она.
Она разжала руку, легко опустила ее на другую, в которой была корзинка, покрытая тряпицей. Потом спокойно и незамедлительно, но без торопливости улыбнулась ему безмятежной и доверчивой улыбкой.
— Вы и вправду ничего не можете поделать, да? Вправду не можете?
— Мария, — сказала женщина на скамье. Улыбка так же незамедлительно, но неторопливо исчезла. Не сменилась ничем, просто исчезла, лицо осталось таким же доверчивым и безмятежным.
— Да, сестра, — сказала она, повернулась и пошла к скамье, где уже поднялась другая женщина; младшая снова конвульсивно встрепенулась, тоже собираясь встать; на этот раз твердая тонкая крестьянская рука высокой женщины легла ей на плечо и удержала на месте.
— Это… — произнес старый генерал.
— Его жена, — сурово сказала высокая. — За кого вы ее приняли?
— Да, да, — сказал старый генерал, глядя на младшую; спросил мягким, бесстрастным голосом: «Марсель? Или Тулон?», — и произнес разговорное название улицы, квартала. Женщина хотела ответить, но старый генерал поднял руку.
— Пусть ответит она, — сказал он и снова обратился к младшей:
— Мое дитя? Погромче.
— Да, — сказала младшая.
— О да, — сказала женщина. — Шлюха. Как, по-вашему, она могла добраться сюда — выправить документы на поездку в такую даль, если бы тоже не служила Франции?
— Но и его жена.
— Теперь его жена, — поправила женщина. — Услышьте это, даже если не верите.
— Слышу и верю, — ответил старый генерал.
Тут женщина, сняв руку с плеча младшей, направилась к столу, подошла почти вплотную, остановилась и, словно сидящим на скамье оттуда не было слышно, спросила:
— Может быть, сперва отправить их отсюда?
— Зачем? — сказал старый генерал. — Стало быть, вы Магда.
— Да, — сказала она. — Не Марфа, Магда. Я стала Марфой, когда у меня появился брат, и мне пришлось пройти половину Европы, чтобы тридцать лет спустя взглянуть на французского генерала, который своей властью лишит его жизни. Не сохранит жизнь — лишит ее; нет, даже не лишит — возьмет ее назад.
Высокая, спокойная, она стояла, глядя на него сверху вниз.
— Значит, вы даже узнали нас. Сперва я хотела сказать «не помните», потому что вы нас никогда не видали. Но, может, я ошибаюсь, и вы тогда видели нас. Если да, то должны были запомнить, хотя мне было всего девять, а Марии одиннадцать; сегодня, едва взглянув вам в лицо, я поняла, что вам незачем уклоняться, прятаться от воспоминаний, что они не страшат вас, не мучат, не ужасают. Проглядеть это могла Мария — хотя и ее не страшат, не ужасают, не мучат воспоминания, она тоже смотрела вам в лицо, потому что и ей пришлось пройти весь путь до Франции, чтобы встретить отказ сохранить жизнь ее сводному брату, — но не я. Может быть, из-за Марии вы и запомнили нас, если видели: ей было одиннадцать, а у нас в стране одиннадцатилетние уже не девочки, а женщины. Но я отвергаю это, даже не из боязни оскорбить нашу мать, тем более вас — в нашей матери было нечто — я имею в виду не внешность, — выделявшее ее среди всех в той деревне — в той деревне? во всех наших горах, всей стране, — а в вас, несомненно, было — было? есть — нечто, чего нужно остерегаться, бояться и ужасаться всей земле. Оскорблено было бы само зло. Я говорю не просто о том зле. Я имею в виду Зло, в нем были какая-то чистота, суровость, ревность, как в Боге, была какая-то неправедная взыскательность, приемлющая лишь самое лучшее и отвергающая любую подмену. В нем было стремление, цель, противостоять которой оказались не в силах ни наша мать, ни вы; даже не только вы оба, но и наш — мой и Марии — отец: вы не вдвоем, а втроем поступали не как хотели, а как были вынуждены. Это не люди, мужчины и женщины, избирают зло, принимают его и предаются ему, а зло отбирает мужчин и женщин искушением и соблазном, проверяет, испытует их, а затем принимает навсегда, потом они истрачивают, опустошают себя и, в конце концов, не оправдывают ожиданий зла, потому что в них уже не остается ничего нужного, потребного ему; тогда зло уничтожает их. Поэтому дело не просто в том, что вы, чужеземец, оказались в далекой труднодоступной стране, где целые поколения нашего народа рождались, жили и умирали, даже не зная, не представляя, не задумываясь, есть ли за горами земля. Не просто в том, что туда случайно попал мужчина, способный очаровать, прельстить, околдовать слабую, нестойкую женщину, и нашел такую, что была не только слабой, нестойкой, но и красивой (о да, красивой; если бы вам пришлось оправдываться этим, ее красотой и своей любовью, то я первая простила бы вас, потому что виновницей оказалась бы она, а не вы), лишь затем, чтобы погубить ее семью, доверие мужа, покой детей и, в конце концов, ее жизнь, — сперва вынудить мужа порвать с ней лишь затем, чтобы дети остались без отца, потом ее умереть от родов в коровнике лишь затем, чтобы дети остались сиротами, и, наконец, получить право, привилегию, долг — называйте это как угодно обречь этого последнего и единственного ребенка мужского пола на смерть лишь затем, чтобы то имя, которое она предала, перестало существовать. Потому что этого мало. Ничтожно мало. Дело, несомненно, в чем-то гораздо более сильном, величественном, страшном: наш отец не уходил из долины в чужие края искать красавицу, чтобы она стала матерью преемников его имени, оказавшуюся роковой и пагубной женщиной, которая уничтожит это имя; вы не случайно оказались там, а были посланы судьбой, чтобы встретиться там с этой роковой и красивой женщиной; она была не слаба в гордости и нравственности, а отчуждена от них своей красотой — все вы трое поневоле сошлись там не затем, чтобы лишь вычеркнуть это имя нечеловеческой истории — кто за пределами нашей долины когда-нибудь слышал его? Нет, для того, чтобы породить сына, которого один из вас обречет смерти, словно бы во имя спасения земли, мира, истории, человечества.