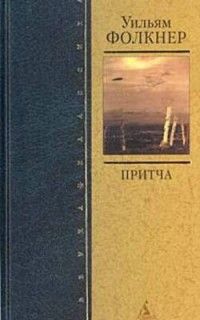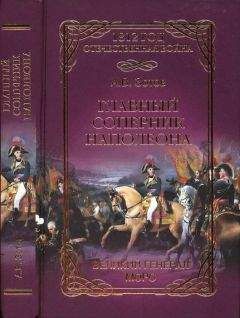Она подняла руки к груди, сжала правую и положила кулак на ладонь левой.
— Конечно, вы узнали нас. А я-то думала, что мне придется предъявлять вам доказательство. И теперь я не знаю, как быть с ним, когда пустить его в ход, словно это нож, которым можно нанести лишь один удар, или пистолет с одной пулей, которым я не рискну воспользоваться слишком рано и не посмею ждать слишком долго. Может быть, вам уже известно, что было потом; я ошиблась, думая, что вы не узнаете нас. Судя по вашему лицу, не исключено, что вы знаете остальное, конец, хотя вас и не было там, вы свершили то, что вам — или по крайней мере ей — было назначено судьбой, и скрылись.
— Ну что ж, расскажите мне, — сказал старый генерал.
— …если мне это нужно? Так? Ленты, звезды и галуны, в течение сорока лет отвращающие копья и пули, не могут сдержать язык одной женщины? Или, вернее, попытаться рассказать, потому что я многого не знаю; мне тогда было девять лет, я просто видела и запомнила; Мария тоже, хотя ей и было уже одиннадцать, потому что даже тогда ее не могли страшить и мучить воспоминания. Кроме того, нам, как и большинству жителей долины, незачем было смотреть на монастырь, потому что он находился там всю нашу жизнь. Как другие гордятся вершиной, ледником или водопадом, так мы — долина гордились им (и в гордости было благоговение) — той точкой, той глухой белой стеной, куполом, башней — что бы это ни было, — которая первой встречала и последней провожала солнце и бывала освещена еще долго после того, как ущелье, где мы ютились, погружалось в темноту. Однако сказать, что он находился высоко, нельзя: высоко — не то слово; его местоположение так не определить. Просто он находился выше, чем забирались мужчины, даже пастухи и охотники. Выше не чем могли, а чем забирались, смели забраться; это был не храм, не святое место, потому что мы знали священников и даже тех людей, что жили, обитали в монастыре и служили им; они прежде всего были горцами, так как мы знали их отцов, а наши отцы их дедов, и лишь потом священниками. Скорее, это было гнездо, вроде тех, что заводят орлы, куда люди — мужчины добирались будто по воздуху (вы), не оставляя следов подъема, прихода (да, вы) или ухода (о да, вы), подобно орлам (о да, и вы; если мы с Марией и видели вас тогда, то не помним ни этого, ни когда вы увидели нас, если только вы нас видели, а не просто знали со слов матери; я чуть не сказала «и видел ли вас наш отец», конечно же, видел, вы, должно быть, сами позаботились об этом: джентльмен, по-джентльменски благородный и притом смелый, потому что для этого нужна была смелость, наш отец уже потерял слишком много, терять ему было почти нечего), поднимались туда не дрожать, преклонив колени, на каменном полу, а думать. Думать: то были не мечтательные надежды, желания и вера (но главным образом лишь ожидания), что мы принимали за раздумья, а некая упорная, неистовая сосредоточенность, способная в любое время — завтра, сегодня, в следующий миг, немедленно изменить форму земли.
Находился он невысоко, но стоял между нами и небом, словно промежуточная станция на пути в рай, поэтому неудивительно, что, если кто-то из нас умирал, остальные верили, что душа, очевидно, не осталась там, а лишь задержалась, чтобы получить разрешение следовать дальше; неудивительно, что, когда наша мать той весной ушла на неделю, мы с Марией догадались, куда: она не умерла, мы ее не хоронили и ей не нужно было миновать эту станцию. Но ушла, несомненно, туда, куда же еще она могла уйти — при своей внешности, несвойственной, чуждой нашей долине, тем более что даже мы, ее дети, ощущали за ее красотой то, чему не было места в наших горах и вообще среди таких людей, как мы; куда же, как не туда? Не думать — ей было недоступно это возвышенное и ужасающее состояние, ее красота и то, что крылось за ней, не допускали этого, но по крайней мере пожить там, окунуться в это неистовое размышление. Удивительно было то, что она вернулась. Удивительно не для долины, а для нас с Марией. Потому что мы были детьми и многого не знали: мы только смотрели, видели и пытались соединить, связать доступные нам нити; в нашем представлении это самое нечто, крывшееся за ее красотой, недоступное ни отцу, ни нам, хотя она была женой одному и матерью другим, наконец совершило то, что с самого начала было обречено совершить. Она не отвергла навсегда тот дом, очаг, ту жизнь; уйдя на неделю, она уже этим порвала все связи, а вернулась лишь затем, чтобы отказаться от того, что уже было брошено; в любом случае она была здесь чуждой, временной гостьей и не могла вернуться просто так. Поэтому мы с Марией, даже будучи детьми, понимали лучше, чем долина, что возврата к прошлому нет. Ожидаемый зимой ребенок, еще один, братишка, сестренка или кем бы он нам доводился, ничего не значил для нас. Хотя мы и были детьми, мы знали кое-что о младенцах; в нашей стране об этом узнают рано, потому что у нас, среди суровых, безжалостных гор, людям нужны, необходимы дети, как жителям стран, кишащих опасными животными, ружья и пули: чтобы защитить, сохранить себя, выжить: мы видели в этом ребенке не клеймо греха, как наш отец, а неопровержимое утверждение чего-то, с которым и он мог бы смириться. Он не выгнал ее из дома. Не думайте так. Это мы она. Он хотел уйти сам, забыть дом, прошлое, все мечты и надежды, связанные с домом; забыть ярость, бессилие, оскорбленное мужское достоинство и, конечно же, сердечную рану. Это она разорвала ту связь и ушла с большим животом, потому что близились роды, уже настала зима, мы не могли высчитать, когда она родит, но мы видели много женщин с большим животом и понимали, что скоро.
И мы ушли. Вечером, когда стемнело. Отец ушел сразу же после ужина, мы даже не знали, куда, теперь мне кажется, просто искать темноты, одиночества, простора и тишины, которых он всегда был лишен. И теперь я знаю, почему.
Нам — ей — нужно было двигаться на запад, и откуда взялись деньги, которых нам хватило на какое-то время, потом нам стало нечем платить за проезд, и мы пошли пешком, потому что она — мы — взяли из дома только то, что было на нас, свои шали и небольшой запас еды, которую Мария несла в этой самой корзинке. И тут я могла бы сказать: «Но вам ничего не грозило; этого было мало», однако не скажу, потому что в вас есть то, перед чем могли бы побледнеть даже небеса. Итак, мы шли пешком на запад: возможно, за неделю она там не научилась думать, но по крайней мере узнала кое-что из географии. Потом еда кончилась, мы кормились тем, что нам подавали, но роды приближались, и мы никуда не успели бы добраться, даже будь у нас деньги на проезд. Потом настала та ночь, мы тронулись в путь уже зимой, и подошло рождество, сочельник; теперь я не помню, выгнали нас с постоялого двора, или не пустили туда, или, может, мать сама рвала даже эту связь с человеком. Помню только солому, темный хлев и холод, не помню, Мария или я побежала по снегу и стучалась в закрытую кухонную дверь, пока кто-то не вышел, — помню лишь, что наконец появился свет, фонарь, над нами склонились чуждые, незнакомые лица, потом кровь, лимфу, сырость; я, ребенок девяти лет, и одиннадцатилетняя идиотка-сестра пытались укрыть, чем могли, эту оскорбленную, преданную и забытую наготу, она совала сжатый кулак мне в ладонь и пыталась что-то сказать, ее рука сжимала, стискивала то, что было в ней, даже когда я дала обещание, клятву…
Она смотрела на него сверху вниз, сжатый кулак одной руки лежал в ладони другой.
— Не ради вас — ради него. Нет, неправда: уже ради вас, ради этой минуты она в ту ночь, тридцать три года назад, втиснула медальон в мою руку и пыталась что-то сказать; даже в девять лет я должна была понимать, что я принесу его вам, пройдя половину Европы, и что это окажется напрасно. Какой-то рок, судьба передалась, легла на меня, едва я прикоснулась к медальону, потом я открыла его и стала думать, гадать, чей в нем портрет, потом я — мы — нашли кошелек, деньги, на которые потом добирались сюда. О, вы были щедры; никто не отрицал этого. Ведь вы не могли представить, что деньги, которые были должны купить вам освобождение от последствий юношеского безрассудства, — приданое, если ребенок будет девочкой, клочок пастбища и стадо, которое там будет пастись, если мальчиком, который со временем женится, и в любом случае внуки навсегда удержат соучастницу вашего безрассудства на безопасном для вас расстоянии, послужат совершенно противоположной цели, что мы поедем на них в Бейрут, а то, что останется, послужит своему первоначальному назначению: станет приданым.
Потому что мы могли остаться там, в наших горах, в нашей стране, среди людей, которых мы знали и которые знали нас. Мы могли остаться на постоялом дворе в той деревне, потому что люди на самом деле добры, они действительно способны на жалость и сострадание к слабым, сирым и беспомощным, потому что это жалость и сострадание, а те слабы, беспомощны, сиры и люди, хотя, конечно, вы не сможете, не посмеете поверить в это: вы смеете верить лишь в то, что людей нужно покупать, использовать до конца, а потом отвергать их. На постоялом дворе мы провели почти десять лет. Разумеется, мы там работали — стряпали, доили коров; Мария, несмотря на слабоумие, умела обращаться с простой домашней живностью, с коровами и гусями, вполне довольными тем, что они коровы и гуси, а не львы и олени: номы так же работали бы и дома, куда, несмотря на свою доброту, а может быть, по своей доброте, люди уговаривали нас вернуться.