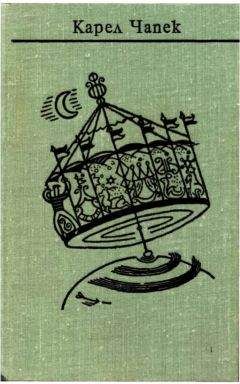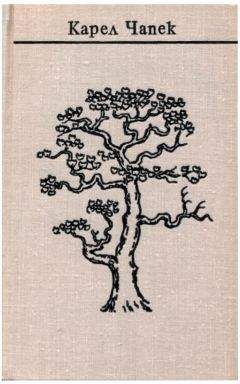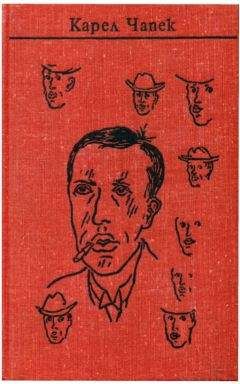В непосредственной близости от лаборатории оказались домики — видимо, жилища сторожей комбината; в садике копошилась добрая дюжина детишек, молодая мать убаюкивала ревущего красного малыша. Встретив взбешенный взгляд Прокопа, она осеклась, перестала петь.
— Добрый вечер, — буркнул Прокоп и побрел обратно, сжимая кулаки. Хольц — в пяти шагах за ним.
По дороге в замок они встретили княжну верхом, в сопровождении кавалькады офицеров. Прокоп сошел на боковую дорожку, но княжна на всем скаку повернула коня за ним.
— Если захотите прокатиться, — быстро заговорила она, и по ее смуглым щекам волной пробежал румянец, — в вашем распоряжении будет Премьер.
Прокоп отступил перед приплясывающим Вирлвиндом. Он в жизни не сидел в седле, но не сознался бы в этом ни за что на свете.
— Благодарю, — сказал он. — Но не нужно… подслащивать… мой плен.
Княжна нахмурилась; действительно, именно с ней неуместно было заговаривать об этой стороне дела. Однако она подавила гнев и возразила, деликатно сочетая укор и приглашение:
— Не забывайте, что в замке вы — мой гость.
— Полагаю, я мог бы обойтись и без этого, — строптиво проворчал Прокоп, пристально следя за малейшим движением горячего коня.
Княжна в раздражении шевельнула ногой; Вирлвинд фыркнул и поднялся на дыбы.
— Не бойтесь его, — с усмешкой кинула Вилле.
Прокоп потемнел в лице и ударил коня по морде; княжна вскинула хлыст, словно собираясь хлестнуть его по руке. Кровь бросилась Прокопу в голову.
— Осторожнее! — прохрипел он, впившись налитыми кровью глазами в сверкающие глаза княжны. Офицеры из ее свиты уже заметили неладное и подскакали ближе.
— Алло, что тут происходит? — крикнул передний из них и погнал свою вороную кобылу прямо на Прокопа. Тот, увидев над собой лошадиную голову, схватил поводья и изо всех сил дернул в сторону. Кобыла заржала от боли, сделала свечку, наездник свалился в объятия невозмутимого Хольца. Две сабли блеснули на солнце; но княжна была уже тут как тут на дрожащем Вирлвинде и конем оттеснила офицеров.
— Отставить! — скомандовала она. — Это мой гость! — Она хлестнула Прокопа мрачным взглядом, добавив: — Тем более — он боится лошадей. Познакомьтесь, господа. Лейтенант Ролауф. Инженер Прокоп. Князь Сувальский. Фон Граун. Инцидент исчерпан, не так ли? Ролауф — на коня. Поехали. Премьер к вашим услугам, господин инженер. И помните — здесь вы только гость. До свидания!
Хлыст многообещающе свистнул в воздухе, Вирлвинд повернулся так резко, что из-под копыт брызнул песок, и кавалькада скрылась за поворотом; только лейтенант Ролауф еще джигитовал на коне вокруг Прокопа; испепеляя его яростными взглядами, он хриплым от бешенства голосом выдавил:
— Рад познакомиться, сударь!
Прокоп повернулся на каблуках, ушел в свою комнату и заперся там; через два часа Пауль, шаркая по-стариковски, поплелся из «кавалерского покоя» в дирекцию с каким-то объемистым посланием. Тотчас после этого примчался нахмуренный, злой Карсон; повелительным жестом он выгнал Хольца, спокойно дремавшего на стуле перед дверью, и вошел к Прокопу.
Хольц уселся на ступеньках замка и закурил трубку. В «кавалерском покое» раздался грозный рев, но это ни в малейшей степени не касалось Хольца; трубочка плохо тянула, и Хольц развинтил ее, опытным движением прочистил мундштук травинкой. А в «кавалерском покое» будто рычала пара тигров, сцепившихся в драке; один орал, другой хрипел, грохнулось что-то из мебели, и на секунду воцарилась тишина; и снова разнесся страшный крик Прокопа. Сбежались садовники, но Хольц прогнал их мановением руки и принялся продувать мундштук. Буря наверху нарастала, оба тигра рычали, кидались друг на друга, храпя от бешенства. Пауль выбежал из замка бледный как стена, в ужасе возвел глаза к небу. В это время мимо проезжала княжна со своей свитой; услышав крики в гостевом крыле замка, она нервно засмеялась и без всякой надобности огрела Вирлвинда хлыстом. Постепенно крик стал утихать, слышно было только, как ругается и грозится Прокоп, грохая кулаком по столу. Его перебивает резкий голос, он угрожает и приказывает; Прокоп вне себя громко протестует, но резкий голос отвечает тихо и решительно.
— По какому праву? — орет Прокоп.
Повелительный голос объясняет ему что-то с тихой, угрожающей настойчивостью.
— Но тогда, понимаете ли вы это, тогда вы все взлетите на воздух! — гремит Прокоп, и буря разражается снова, настолько грозная, что Хольц моментально прячет трубку в карман и бросается в замок. Но все снова утихло, только резкий голос, приказывая, рубит фразы; ему отвечает лишь грозное, глухое рычание. Похоже, что там, наверху, диктуют условия перемирия. Еще дважды раскатился яростный рев Прокопа, но обладатель резкого голоса уже не сердился; казалось, он был уверен в своей победе.
Полтора часа спустя из комнаты Прокопа вырвался насупленный Карсон, багровый, лоснящийся от пота, и пыхтя, рысью побежал к покоям княжны. Через десять минут Пауль, трепеща от почтительности, доложил Прокопу, который сидел в своей комнате, кусая губы и пальцы.
— Ее светлость…
Вошла княжна в вечернем платье, пепельно-бледная, жгуче сдвинув брови. Прокоп шагнул ей навстречу и, казалось, собрался что-то сказать ей; княжна остановила его движением руки — жестом, исполненным высокомерия и отвращения, — и проговорила сдавленным голосом:
— Я пришла, господин инженер, чтобы… извиниться за тот инцидент. Я не имела в виду ударить вас. И безмерно сожалею о своем поступке.
Прокоп покраснел, попытался ответить; но княжна продолжала:
— Лейтенант Ролауф сегодня уедет. Князь приглашает вас как-нибудь отобедать с нами. Забудьте этот случай. До свидания.
И она быстро подала ему руку. Прокоп едва коснулся ее пальцев; они были очень холодны и безжизненны.
После бури между Карсоном и Прокопом воздух как будто очистился. Прокоп, правда, заявил, что сбежит при первой возможности, но обязался честным словом до той поры воздерживаться от каких бы то ни было насильственных действий и диверсий. Зато расстояние между ним и Хольцем увеличили до пятнадцати шагов и разрешили (в сопровождении этого стража) беспрепятственно передвигаться в радиусе четырех километров от семи часов утра до семи вечера, ночевать в лаборатории и питаться где ему угодно. Но Карсон поселил чуть ли не в самой его лаборатории женщину с двумя детьми, и как нарочно — вдову рабочего, убитого взрывом кракатита — в виде известной моральной гарантии от всякого рода, скажем, неосторожности. Кроме того, Прокопу положили превосходный оклад с выплатой золотом и предоставили его доброй воле — развлекаться или работать.
Первый день после соглашения Прокоп провел, тщательно изучая местность в радиусе четырех километров, интересуясь возможностью побега. Перспектива оказалась прескверной: запретная зона безупречно охранялась. Затем он придумал несколько способов убить Хольца; к несчастью, вскоре Прокоп узнал, что этот хладнокровный и выносливый молодчик содержит пятерых детей, да еще мать и сестру-хромоножку, и что вдобавок в прошлом у него три года тюрьмы за убийство. Все эти обстоятельства не очень-то ободряли.
Несколько утешало Прокопа, что в него безоглядно, прямо страстно влюбился Пауль, дворецкий на пенсии, бесконечно счастливый, что может кому-то служить; этот трогательный старичок глубоко страдал, когда его признали слишком медлительным для того, чтобы прислуживать за столом его светлости. Прокопа иной раз приводило в отчаяние надоедливое, почтительное внимание Пауля. Крепко привязался к Прокопу и доктор Краффт, воспитатель Эгона, рыжий, как лиса, и глубоко несчастный человек; он обладал необычайной эрудицией, увлекался теософией, к тому же был сумасброднейшим из идеалистов, какого только можно себе представить. К Прокопу он относился чрезвычайно почтительно и беспредельно восхищался им, считая по меньшей мере гением. И действительно, Краффт давно знал специальные статьи Прокопа и даже построил, основываясь на них, теософское толкование низшего круга, то есть, выражаясь простым языком, материального мира. Сверх того, доктор Краффт был пацифист, нудный, как все люди слишком возвышенных взглядов.
Прокопу в конце концов надоело бесцельно бродить вдоль запретной зоны, и он все чаще стал удаляться в лабораторию — работать. Он изучал старые свои записи и восполнял многие пробелы; составил и снова уничтожил длинный ряд взрывчатых веществ, подтверждающих его самые смелые гипотезы. Днем он бывал почти счастлив; зато по вечерам — по вечерам Прокоп избегал людей и тосковал под спокойным надзором Хольца, устремляя взгляд на облака, на звезды, на далекий горизонт.
Еще одно, как это ни странно, занимало его: стоило ему услышать топот копыт, как он подходил к окну и наблюдал за наездником, будь это конюх, кто-либо из офицеров или княжна (с которой он не разговаривал после того памятного дня); нахмурив брови в пристальном внимании, он подмечал все движения коня и всадника. Он понял, что всадник, собственно говоря, вовсе не сидит в седле, а скорее стоит в стременах; и точкой опоры ему служит не зад, а колени; он не подскакивает безвольно, как куль, встряхиваемый конской спиной, а активно предваряет ритмичное движение лошади. Практически все это, может быть, и весьма просто, но наблюдатель, одаренный инженерной мыслью, видит чрезвычайно сложную механику — особенно когда конь поднимается на дыбы, начинает брыкаться или приплясывать, дрожа от благородной, пугливой обиды. Все это Прокоп изучал долгими часами, спрятавшись за занавеской; и в одно прекрасное утро велел Паулю передать, чтоб ему оседлали Премьера.