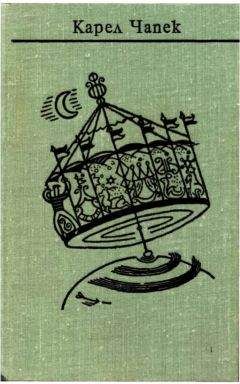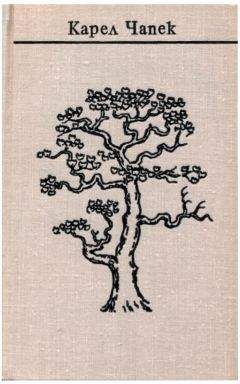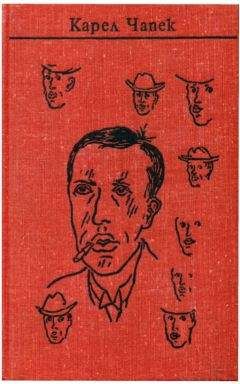— Ну, что? — гордо вопросил пациент. — Боюсь я лошадей или нет?
Княжна вспыхнула так, как никто от нее не ожидал бы; она даже сама смутилась и ощутила досаду. Но она превозмогла себя и снова превратилась в гостеприимную владелицу замка; объявила, что приедет профессор-хирург, спросила, чего желает Прокоп из еды, для чтения и так далее и велела Паулю дважды в день сообщать ей о здоровье гостя; поправила что-то на подушке — так, что Прокоп почувствовал, насколько далека от него эта дама, — и, слегка кивнув, вышла.
Вскоре на машине приехал знаменитый хирург, но ему пришлось прождать несколько часов, как ни качал он в удивлении головой: господин инженер Прокоп изволили крепко уснуть.
Известный хирург, естественно, признал работу полкового мясника негодной, снова растянул ногу Прокопа и под конец наложил гипс, заявив, что, судя по всему, пациент навсегда останется хромым.
Для Прокопа наступили чудесные дни праздности. Краффт читал ему вслух Сведенборга, Пауль — семейные календари; по велению княжны ложе страдальца окружили роскошнейшими изданиями мировой литературы. В конце концов Прокопу надоели даже календари, и он начал диктовать Краффту систематизированный труд по деструктивной химии. Больше всего — как это ни странно — ему нравилось общество Карсона, чья дерзость и прямота импонировали ему; ибо за ними Прокоп обнаружил великие планы и сумасбродную фанатичность принципиального международного милитариста. Пауль был на вершине блаженства: теперь кто-то нуждался в нем от ночи и до ночи, он мог служить каждым своим вздохом, каждым шажком своих старческих ног.
Лежишь со всех сторон окруженный материей, подобный поверженному стволу дерева; но разве не чувствуешь ты искрения страшных, непознанных сил в этой недвижной материи, обступающей тебя? Нежишься на пуховых подушках — а они заряжены силой, превосходящей силу целой бочки динамита. Тело твое — спящая взрывчатка; даже трясущаяся, увядшая рука Пауля таит в себе, возможно, большую взрывную силу, чем мелинитовый запал. Ты недвижно покоишься среди океана неизмеренных, неразложенных, недобытых сил; все, что вокруг, — не мирные стены, не тихие люди, не шумящие кроны: деревьев, это склад взрывчатых веществ, космический пороховой погреб, готовый к ужасающему взрыву; постукиваешь пальцем по вещам, словно проверяя бочки с экразитом — полны ли.
Руки Прокопа стали прозрачными от бездеятельности, зато обрели удивительную тонкость осязания: они прямо на ощупь чувствовали, угадывали взрывной потенциал всего, чего бы ни коснулись. В молодом теле — огромное напряжение; зато доктор Краффт, этот восторженный идеалист, обладает сравнительно слабой взрывчатостью, в то время как детонационный коэффициент Карсона приближается к тетранитранилину. И Прокоп с трепетом вспоминал холодное прикосновение руки княжны — оно выдало ему чудовищную бризантность этой гордой амазонки. Прокоп ломал себе голову — зависит ли потенциальная взрывная энергия организма от наличия каких-либо ферментов и других веществ или от химической структуры клеточных ядер, которые уже par excellence[146] — великолепные заряды. Как бы там ни было, а он очень хотел бы увидеть, как взорвется эта смуглая, высокомерная девушка.
Но вот уже Пауль возит Прокопа по парку в кресле на колесах; Хольц пока не нужен, но он нашел себе дело — в нем обнаружился талантливый массажист, и Прокоп чувствует, как из его упругих пальцев брызжет благодатная взрывная сила. Если иной раз они встречают в парке княжну, та произносит несколько слов с безупречной, точно дозированной вежливостью, и Прокоп, к собственной досаде, не в силах понять, как это делается; сам он то слишком груб, то излишне общителен. Остальная компания смотрит на Прокопа как на чудака; это дает им право не принимать его всерьез, а ему — свободу быть с ними невежливым, как сапожник. Однажды княжна соизволила остановиться возле него, велев своей свите подождать; она села рядом с Прокопом и осведомилась о его работе. Прокоп, желая угодить ей, пустился в такие специальные рассуждения, словно делал доклад на международном конгрессе химиков. Князь Сувальский и еще какой-то кузен начали подталкивать друг друга и переглядываться; разъяренный Прокоп огрызнулся — он, мол, рассказывает не для них. Глаза всех обратились на ее светлость: только она могла поставить на место невоспитанного плебея. Но княжна терпеливо улыбнулась и отослала своих спутников играть в теннис. Она смотрела им вслед, сощурив глаза щелочкой, а Прокоп искоса наблюдал за ней; строго говоря, только сейчас он впервые как следует разглядел ее. Была она сильная, тонкая, с избытком пигмента в коже, в общем, не такая уж красивая; маленькая грудь, нога закинута за ногу, великолепные породистые руки; на гордом лбу — шрам, острый взгляд из-под прищуренных век, под тонким носом — темный пушок, властные твердые губы; в общем, почти красива. Какие же у нее на самом деле глаза?
Тут она прямо взглянула на него, и Прокопа охватило смятение.
— Говорят, вы умеете ощупью определять характер, — быстро проговорила она. — Об этом рассказывал Краффт.
Прокоп засмеялся такому чисто женскому толкованию его непостижимой чуткости в химии.
— Ну да, всегда ощущаешь, сколько силы в том или другом предмете; это пустяки, — ответил он.
Княжна бросила быстрый взгляд на его руку, потом вокруг себя; поблизости никого не было.
— Дайте-ка, — пробурчал Прокоп, подставляя свою разрезанную шрамом ладонь.
Она положила на нее кончики гладких пальцев; словно молния пронизала Прокопа, сердце забилось бурно, в голове пронеслась дурацкая мысль: «Что, если сжать?»
И он уже мял, давил в своей грубой лапе обжигающую, упругую плоть ее руки. Словно вино ударило ему в голову, все пошло кругом; он еще увидел, как княжна прикрыла веки, втянула воздух полураскрытым ртом; тогда он сам закрыл глаза и, стиснув зубы, полетел в кружащуюся тьму. Его рука горячо, бешено боролась с тонкими, присасывающимися пальцами; они силились вырваться, они извивались, как змеи, впивались ногтями в его кожу и снова обнаженно, судорожно льнули к его ладони. Прокоп стучал зубами от наслаждения: трепетные пальцы адски возбуждали, в глазах пошли алые круги… Вдруг сильное, обжигающее пожатие — и узкая ладонь вырвалась из его пальцев. Как в дурмане поднял Прокоп пьяные глаза, в голове тяжко стучала кровь; с изумлением увидел он зелено-золотой сад и снова опустил веки, ослепленный дневным светом. Княжна покрылась пепельной бледностью и кусала губы острыми зубами; в щелочках ее глаз горело, кажется… безмерное отвращение.
— Ну? — повелительно спросила она.
— Девственна, бессердечна, сладострастна, яростна и горда, — выжжена как трут, как трут… и зла; вы — злая; вы обжигаете жестокостью, в вас много ненависти и нет сердца; вы — злая; вы до отказа заряжены страстностью; недотрога, алчная, суровая, суровая к себе — лед и пламя, пламя и лед…
Княжна молча кивнула: да.
— …Недобрая ко всем, недобрая ко всему; надменна, вспыльчива как порох, неспособная любить, скучающая и пылкая… раскаленная… спекшаяся от жара, а вокруг вас все вымерзает.
— Я должна быть сурова к себе, — шепнула княжна. — Вы не знаете… не знаете… — Она махнула рукой и поднялась. — Благодарю вас. Я пришлю к вам Пауля.
* * *
Излив таким способом горечь обиды, Прокоп стал более спокойно думать о княжне; его даже задевало, что теперь она явно избегает его. При первой возможности он намеревался сказать ей что-нибудь приветливое, но такая возможность больше не представлялась.
В замок приехал князь Рон, или «mon oncle»[147] Шарль, брат покойной княгини; весьма образованный и элегантный скиталец, почитатель всего прекрасного, très grand artiste[148], как говорили; он даже написал несколько исторических романов, а впрочем, был чрезвычайно милый человек. К Прокопу он почувствовал особую симпатию и проводил у него целые часы. Прокоп извлек большую пользу от общения с этой обаятельной личностью, в какой-то мере обтесался и понял, что в мире, кроме деструктивной химии, существуют и другие вещи. Oncle Шарль был воплощенная хроника анекдотов. Прокоп с удовольствием сворачивал разговор на княжну и с интересом слушал, какая это была злая, взбалмошная, гордая и великодушная девочка; однажды она стреляла в своего maître de dance[149], в другой раз предложила вырезать у себя кусок кожи для трансплантации обжегшейся няне, а когда ей не разрешили этого — в ярости разбила une vitrine[150] с редчайшим хрусталем. Le bon oncle[151] захватил как-то с собой и «оболтуса» Эгона и стал приводить ему Прокопа в пример, да с такими аттестациями, что бедняга краснел не меньше Эгона.
Через пять недель Прокоп уже мог ходить с палочкой; он все чаще удалялся в свою лабораторию и работал как вол, до того, что возвращалась боль в ноге, и на обратном пути он всей тяжестью опирался на руку внимательнейшего Хольца. Карсон сиял, видя Прокопа таким мирным и трудолюбивым, и порой закидывал удочки туда, где почил в бозе кракатит; но Прокоп о нем и слышать не желал.