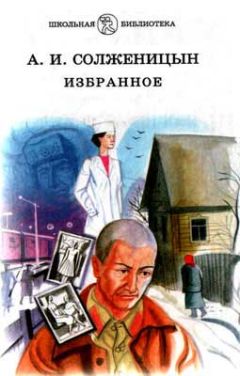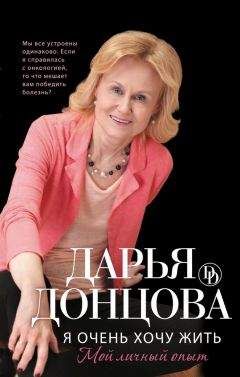Конечно, на таком кумаче и на таком видном месте приличней было бы вывесить лозунг из числа октябрьских или первомайских, — но для их здешней жизни был очень важный и этот призыв, и уже несколько раз Павел Николаевич, ссылаясь на него, останавливал больных, чтоб не травили душу.
(А вообще-то, рассуждая по-государственному, правильней было бы опухолевых больных в одном месте не собирать, раскидывать их по обычным больницам, и они друг друга бы не пугали, и им можно было бы правды не говорить, и это было бы гораздо гуманнее).
В палате люди менялись, но никогда не приходили весёлые, а все пришибленные, заморённые. Один Ахмаджан, уже покинувший костылёк и скорый к выписке, скалил белые зубы, но развеселить кроме себя никого не умел, а только, может быть, вызывал зависть.
И вдруг сегодня, часа через два после угрюмого новичка, среди серенького унылого дня, когда все лежали по кроватям и стекла, замытые дождём, так мало пропускали света, что ещё прежде обеда хотелось зажечь электричество, да чтоб скорей вечер наступал, что ли, — в палату, опережая сестру, быстрым здоровым шагом вошёл невысокий, очень живой человек. Он даже не вошёл, он ворвался — так поспешно, будто здесь были выстроены в шеренгу для встречи, и ждали его, и утомились. И остановился, удивясь, что все вяло лежат на койках. Даже свистнул. И с энергичной укоризной бодро заговорил:
— Э-э, браты, что это вы подмокли все? Что это вы ножки съёжили? — Но хотя они и не были готовы ко встрече, он их приветствовал полувоенным жестом, вроде салюта: — Чалый, Максим Петрович! Прошу любить! Воль-на!
Не было на его лице ракового истомления, играла жизнелюбивая уверенная улыбка — и некоторые улыбнулись ему навстречу, в том числе и Павел Николаевич. За месяц среди всех нытиков это, кажется, первый был человек!
— Та-ак, — никого не спрашивая, быстрыми глазами высмотрел он свою койку и вбивчиво протопал к ней. Это была койка рядом с Павлом Николаевичем, бывшая Мурсалимова, и новичок зашёл в проход со стороны Павла Николаевича. Он сел на койку, покачался, поскрипел. Определил: — Амортизация — шестьдесят процентов. Главврач мышей не ловит.
И стал разгружаться, а разгружать ему оказалось нечего: в руках ничего, в одном кармане бритва, а в другом пачка, но не папирос — а игральных, почти ещё новых карт. Он вытянул колоду, протрещал по ней пальцами и, смышлёными глазами глядя на Павла Николаевича, спросил:
— Швыряетесь?
— Да иногда, — благожелательно признался Павел Николаевич.
— Преферанс?
— Мало. Больше в подкидного.
— Это не игра, — строго сказал Чалый. — А — штос? Винт? Покер?
— Куда там! — смущённо отмахнулся Русанов. — Учиться было некогда.
— Здесь и научим, а где ж ещё? — вскинулся Чалый. — Как говорится: не умеешь — научим, не хочешь — заставим!
И смеялся. По его лицу у него был нос велик — мягкий, большой нос, подрумяненный. Но именно благодаря этому носу лицо его выглядело простодушным, располагающим.
— Лучше покера игры нет! — авторитетно заверил он. — И ставки — втёмную.
И уже не сомневаясь в Павле Николаевиче, оглядывался ещё за партнёрами. Но никто рядом не внушал ему надежды.
— Я! Я буду учился! — кричал из-за спины Ахмаджан.
— Хорошо, — одобрил Чалый. — Ищи вот, что б нам тут между кроватями перекинуть.
Он обернулся дальше, увидел замерший взгляд Шулубина, увидел ещё одного узбека в розовой чалме с усами свисающими, тонкими, как выделанными из серебряной нити, — а тут вошла Нэлля с ведром и тряпкой для неурочного мытья полов.
— О-о-о! — оценил сразу Чалый. — Какая девка посадочная! Слушай, где ты раньше была? Мы б с тобой на качелях покатались. Нэлля выпятила толстые губы, это она так улыбалась:
— А чо ж, и счас не поздно. Да ты хворый, куда те?
— Живот на живот — всё заживёт, — рапортовал Чалый. — Или ты меня робеешь?
— Да сколько там в тебе мужика! — примерялась Нэлля.
— Для тебя — насквозь, не бось! — резал Чалый. — Ну скорей, скорей, становись пол мыть, охота фасад посмотреть!
— Гляди, это у нас даром, — благодушествовала Нэлля и, шлёпнув мокрую тряпку под первую койку, нагнулась мыть.
Может быть, вовсе не был болен этот человек? Наружной болячки у него не было видно, не выражало лицо и внутренней боли. Или это он приказом воли так держался, показывал тот пример, которого не было в палате, но который только и должен быть в наше время у нашего человека? Павел Николаевич с завистью смотрел на Чалого.
— А — что у вас? — спросил он тихо, между ними двумя.
— У меня? — тряхнулся Чалый. — Полипы! Что такое полипы — никто среди больных точно не знал, но у одного, у другого, у третьего частенько встречались эти полипы.
— И что ж — не болит?
— А вот только заболело — я и пришёл. Резать? — пожалуйста, чего ж тянуть?
— И где у вас? — все с большим уважением приспрашивался Русанов.
— На желудке, что ли! — беззаботно говорил Чалый, и ещё улыбался. — В общем, желудочек оттяпают: Вырежут три четверти. Ребром ладони он резанул себя по животу и прищурился.
— И как же? — удивился Русанов.
— Ничего-о, приспосо-облюсь! Лишь бы водка всачивалась!
— Но вы так замечательно держитесь!
— Милый сосед, — покивал Чалый своей доброй головой с прямодушными глазами и подрумяненным большим носом. — Чтоб не загнуться — не надо расстраиваться. Кто меньше толкует — тот меньше тоскует. И тебе советую!
Ахмаджан как раз подносил фанерную дощечку. Приладили её между кроватями Русанова и Чалого, уставилась хорошо.
— Немножко покультурно, — радовался Ахмаджан.
— Свет зажечь! — скомандовал Чалый. Зажгли и свет. Ещё стало веселей.
— Ну, а четвёртый? Четвёртый что-то не находился.
— Ничего, вы пока нам так объясните. — Русанов очень подбодрился. Вот он сидел, спустив ноги на пол, как здоровый. При поворотах головы боль в шее была куда слабее прежней. Фанерка не фанерка, а был перед ним как бы маленький игральный стол, освещённый ярким весёлым светом с потолка. Резкие точные весёлые знаки красных и чёрных мастей выделялись на белой полированной поверхности карт. Может быть, и правда, вот так, как Чалый, надо относиться к болезни — она и сползёт с тебя? Для чего киснуть? Для чего всё время носиться с мрачными мыслями?
— Что ещё будем подождать? — упрашивал и Ахмаджан.
— Та-ак, — с быстротой киноленты перепускал Чалый всю колоду через свои уверенные пальцы: ненужные в сторону, нужные к себе. — Участвуют карты: с девятки до туза. Старшинство мастей: трефы, потом бубны, потом червы, потом пики. — И показывал масти Ахмаджану. — Понял?
— Есть понял! — с большим удовольствием отзывался Ахмаджан.
То выгибая и потрескивая отобранной колодой, то слегка тасуя её, объяснял Максим Петрович дальше:
— Сдаётся на руки по пять карт, остальные в кону. Теперь надо понять старшинство комбинаций. Комбинации так идут. Пара. — Он показывал. — Две пары. Стрит — это пять штук подряд. Вот. Или вот. Дальше — тройка. Фуль…
— Кто — Чалый? — спросили в дверях.
— Я Чалый!
— На выход, жена пришла!
— Ас кошёлкой, вы не видели?… Ладно, браты, перерыв.
И бодро беззаботно пошёл к выходу.
Тихо стало в палате. Горели лампы как вечером. Ахмаджан ушёл к себе. Быстро расшлёпывая по полу воду, подвигалась Нэлля, и надо было всем поднять ноги на койки.
Павел Николаевич тоже лёг. Он просто чувствовал на себе из угла взгляд этого филина — упорное и укоризненное давление на голову сбоку. И чтоб облегчить давление, спросил:
— А у вас, товарищ, — что?
Но угрюмый старик даже вежливого движения не сделал навстречу вопросу, будто не его спрашивали. Круглыми табачно-красными глазищами смотрел как мимо головы. Павел Николаевич не дождался ответа и стал перебирать в руках лаковые карты. И тогда услышал глухое:
— То самое.
Что "то самое"? Невежа!.. Павел Николаевич теперь сам на него не посмотрел, а лёг на спину и стал просто так лежать-думать.
Отвлёкся он приходом Чалого и картами, а ведь ждал газеты. Сегодня день был — слишком памятный. Очень важный, показательный день, и по газете предстояло многое угадать на будущее. А будущее страны — это и есть твоё будущее. Будет ли газета в траурной рамке вся? Или только первая страница? Будет портрет на целую полосу или на четверть? И в каких выражениях заголовки и передовица? После февральских снятий все это особенно значит. На работе Павел Николаевич мог бы от кого-то почерпнуть, а здесь только и есть — газета.
Между кроватями толкалась и ёрзала, ни в одном проходе не помещаясь, Нэлля. Но мытье у неё быстро получалось, вот уж она кончала и раскатывала дорожку.
И по дорожке, возвращаясь с рентгена и осторожно перенося больную ногу, подёргиваясь от боли, вошёл Вадим.