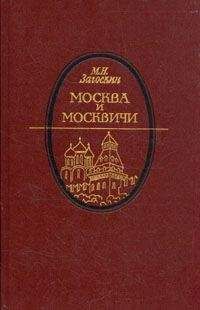Андрей Иванович. Да это, Степан Степанович, философия, а я тебе говорю о литературе.
Степан Степанович. И, вероятно, французской?… Хороша, мой друг, и она!
Андрей Иванович. Да уж как хочешь, а получше прежней!.. Не то время, мой друг! Теперь я не советую потчевать нас розовою водицею.
Степан Степанович. Конечно, конечно!.. Зачем нам светлый ручеек — это приторно! Подавай нам помойную яму. Вот, например, «Таинства Парижа»…
Андрей Иванович. А что, чай, скажешь — дурная книга? Нет, любезный, — это гениальное произведение. Какая глубина!.. Сколько истины! А какие эффекты!.. Вздохнуть некогда!
Степан Степанович. Подлинно, вздохнуть некогда!.. Не успеешь полюбоваться одним кабаком, а тебя ведут в другой; то посидишь в остроге, то попируешь в грязной харчевне с каторжниками, то побеседуешь с распутными женщинами; что глава, то новый эффект! Жаль только, что все эти эффекты отзываются торговой площадью, на которой у нас секут кнутом, а у французов рубят головы. Почти в каждой главе или идут кого-нибудь резать, или зарезали. А какое разнообразие мучений и смертей!.. Одну топят в реке посредством клапана, приделанного к лодке, ей же хотят стравить все лицо купоросным маслом; другой ломают все кости и разбивают голову о каменную стену; третьего душат; четвертый захлебывается в погребе, в котором вода потихоньку прибывает; пятого травят крысами; шестого… и заметьте, родная мать закладывает в комнате, где он должен задохнуться от недостатка воздуха; седьмой умирает такой позорной и отвратительной смертию, что нельзя без тошноты об этом и подумать; восьмой… Да где перечесть все эти пиитические вымыслы, от которых любой палач станет в тупик!..
Андрей Иванович. Да это что, Степан Степанович, — мелочи! Ты мне скажи, каковы характеры?…
Степан Степанович. Ну, характеры действующих лиц далеко не так разнообразны; большую часть из них можно разделить на два только рода: злодеи возможные и злодеи невозможные, но этот недостаток с избытком выкупается разнообразием имен, которые поражают своей новостию. Красная рука; Скелет; Горлопанка — иначе перевести нельзя: la goualeuse — производное речение от слова «gueule»: Тыква; Волчица. Прелесть!.. Ну, вот так и пышет на вас смирительным домом!.. Главное действующее лицо романа — какой-то владетельный немецкий принц, который для какой-то высокой цели, вероятно известной одним избранным читателям этого романа, таскается по кабакам, дерется и бражничает с заклейменными разбойниками; одних жалует, других наказывает; одному каторжному, который хотя человек очень честный, но любит проливать кровь, дарит бойню; другому, который уж вовсе никуда не годится, выкалывает глаза и дает пенсион, что, впрочем, не мешает ему продолжать разбойничать. Второе лицо, на котором основывается весь интерес повести, молоденькая девочка — истинно странное и необычайное создание… Эта девочка… приученная с ребячества к распутству, не принадлежит даже к числу развратных женщин, которые служат забавою для пьяных фабричных. Нет, она еще ниже! Она живет с каторжными, гуляет с ними по кабакам, пьет водку; они ее и ласкают и бьют, говорят с нею своим условным мошенническим языком, — одним словом, нет уже ничего в человечестве презрительнее и гнуснее класса женщин, к которому принадлежит эта несчастная… И что ж, вы думаете, что такое эта девочка? Наружностию она совершенство, прелесть, идеал красоты! Душою — ангел чистоты и непорочности!.. Нет, батюшка Андрей Иванович, тут уж поневоле вспомнишь стишок Грибоедова: «…ври, да знай же меру…»
Андрей Иванович. Да ты что хочешь говори, а недаром же эта книга заслужила такой колоссальный успех. Поверь мне, если б сочинитель не имел высокой нравственной цели, если б он не раскрывал нам всю глубину порока и разврата, до которых может достигнуть человек с необузданными страстями…
Степан Степанович(улыбаясь). И которые может только обуздать не провидение, не вера, — об этом и речи нет, — а какой-то немецкий принц Родольф, человек, впрочем, весьма замечательный как отличный полицейский сыщик и первой силы кулачный боец…
Андрей Иванович. Шути себе, шути! А все-таки эта книга нравственная…
Степан Степанович. Да, точно так же, как записки знаменитого парижского мошенника Видока или «Жизнь московского сыщика, известного плута Ваньки Каина». Конечно, этого рода сочинения только что гадки, а вот, например, на этих днях мне случилось быть в обществе литераторов, и один из них, говоря об известной сочинительнице соблазнительных романов, госпоже Жорж Занд, не постыдился назвать ее великой женою и честью нашего века.
Андрей Иванович. Так что ж?… Разве Жорж Занд явление обыкновенное? Разве талант ее не велик и не самобытен?… Неужели ты будешь спорить против этого?
Степан Степанович. Нет, не буду. Эта женщина действительно одарена большим и, к несчастию, необычайно увлекательным талантом. Но уж, конечно, она не великая жена и не честь нашего века. Великая жена!.. Эта проповедница разврата, которая, прославив себя беспутным поведением, старается во всех сочинениях своих доказать, что законное супружество — постановление безнравственное и унижающее достоинство женщины!
Андрей Иванович. Да где она это говорит?
Степан Степанович. Везде, где только может. Это господствующая мысль во всех ее сочинениях. В одном месте она говорит даже просто: «Cette infame institution de mariage». Кажется, это ясно.
Андрей Иванович. Да, это уж слишком резко!.. Ну, конечно, и я не стану спорить с тобою: сочинитель «Парижских таинств» немножко грязненек, а Жорж Занд не слишком нравственная писательница, но зато какие таланты!.. Как они оба владеют пером! Сколько красот рассыпано в их сочинениях!..
Степан Степанович. Как владеют пером!.. Вот то-то наша и беда! Мы станем восхищаться всякой мерзостью, лишь только бы эта мерзость была облечена в изящную форму…
Я. Однако ж позвольте вам, господа, заметить: вы, кажется, стали говорить о картах?…
Степан Степанович. А вот сейчас к ним вернемся. Я хотел только доказать, что в обыкновенной общественной болтовне мало доброго, а разговаривая о словесности, услышишь такие вещи, что у тебя вся желчь придет в движение, начнешь спорить, разгорячишься, выйдешь из себя…
Андрей Иванович. Зачем горячиться?
Степан Степанович. Зачем?… Не могу же я слышать равнодушно, когда хвалят с восторгом яд потому только, что этот яд подслащен…
Андрей Иванович. Эх, мой друг, да мы должны отделять искусство исполнения от самой цели!
Степан Степанович. Вот уж этого я никак не умею. По-моему, как бы ни было вкусно отравленное питье, а все-таки оно яд. Как ни усыпай цветами грязь, а все-таки эта грязь останется грязью.
Андрей Иванович. Ну, в этом с тобою не все будут согласны.
Степан Степанович. Оттого-то, мой друг, я и не люблю литературных и ученых бесед. Зачем без всякой пользы расстраивать себя, надсаживать свою грудь?… То ли дело в преферанс, разумеется по маленькой: твой проигрыш для тебя нечувствителен, выигрыш никого не разоряет. Шутишь, забавляешься; заставишь поставить ремиз — смеешься; тебя обремизят — также смеешься. Ничтр не тревожит твоей желчи, кровь не волнуется, а время идет да идет!..
Андрей Иванович. Да, конечно, время проходит, и с большою пользою.
Степан Степанович. По крайней мере, без большого зла, мой друг, а в нашем грешном быту и то слава богу.
Андрей Иванович. Да ты себе что хочешь говори, а я все-таки стою в том, что эти карты — чума и язва нашего общества… Да, да!.. Я ненавижу их! И если б только мог, то собрал бы карты со всего света, сложил бы из них огромный костер и зажег бы его собственной моей рукою!
(Степан Степанович смеется.)
Я. Ну, Степан Степанович, что бы вы тогда сделали?
Степан Степанович (продолжая смеяться). Что бы сделал?… Я бросился бы на этот костер, сложенный из карт, и сгорел бы вместе с ними!
I
Несколько слов о наших провинциалах
Ну, что за общество!
То харя, то урод! Здесь вся кунсткамера
……
Какая вежливость, какие обращенья!
Все эти чучелы похожи ль на людей?
Без вкусу, без ума, совсем без просвещенья.
Князь Шаховской
Давно уже я не беседовал с вами, любезные читатели, не потому, чтоб я боялся надоесть вам моею болтовнёю, мне это и в голову не приходило: ведь дети и старики (что, по мнению некоторых, одно и то же) никогда об этом не заботятся, — им бы только болтать. Вы также ошибетесь, если подумаете, что я так долго молчал потому, что мне нечего было вам рассказывать, — помилуйте!.. Уж я вам докладывал, что Москва не город, не столица, а целый русский мир; что в ней собраны вместе все образчики главных начал, составляющих то огромное тело, которому Петербург служит главою, а Москва — сердцем. Так неужели я мог в двух небольших книжках высказать вам все то, что можно сказать о нашей матушке Москве православной?… О, нет!.. Была бы только охота, а поговорить есть о чем; и я, верно бы, продолжал забавлять или усыплять вас моими рассказами, если б не был занят другим. Вот уж около года мой домик на Пресненских прудах стоит, как сиротинка, с запертыми воротами и затворенными ставнями; мой широкий двор зарос крапивою; мои акации, бузина и сирени заглохли травою; моя дерновая скамья, с которой я так часто любовался изгибистым бегом Москвы-реки, развалилась и стала похожа на небрежно засыпанную могилу. После этого вам нетрудно будет отгадать, что меня не было в Москве. Я ездил по домашним делам верст за тысячу; прожил долго в Калужской губернии, потрудился, поработал, нагулялся досыта по этим некогда дремучим Брынским лесам; погостил несколько дней в селе Толстошеине, в котором, говорят, жил в старину какой-то боярин в великолепных хоромах с вышками и теремами. Теперь на месте этих хором выстроен обширный железный завод. Видно, везде промышленность и общеполезные заведения вытесняют понемногу русских бояр из их наследственных дедовских палат. Вот, посмотришь, у нас в Москве: в этом старинном боярском доме — фабрика, в том — училище, в одном — больница, в другом — трактир; да так и быть должно. У нас не было ни майоратов, ни наследственной аристократии, так диво ли, что дедушка давал роскошные пиры и жил в огромных палатах, а внук сзывает гостей на чашку чаю и живет скромнехонько в деревянном домике. Оно, дескать, и приютнее, и комфортабельнее, и опрятнее, да и печей-то поменьше надобно топить.