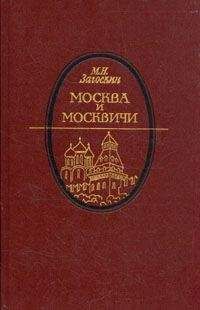Я не стану вас уверять, что все провинциальные барыни походят на столичных. В нашем высшем обществе много есть дам, которые, владея свободно двумя, а часто и тремя иноземными языками, не стыдятся говорить, и говорить прекрасно, на четвертом, то есть на своем собственном. А в провинции найдутся такие барыни, которые в присутствии столичного жителя скорее решатся говорить по-чухонски, чем вымолвить два слова на своем природном языке. Впрочем, это происходит по той же самой причине, по которой наши провинциальные барыни, а особливо в отдаленных губерниях, носят платья и материи, вышедшие из моды. До них еще не дошло, что в наших столицах давно уже перестали щеголять незнанием русского языка. Вообще отличительная черта в характере провинциалов есть какое-то почти детское легковерие относительно всего печатного, и в особенности журналов. Разумеется, что каждый из них слепо верит только тому журналу, который выписывает, — в противном случае он не знал бы, чему и верить; но зато избранный им журнал становится для него совершенным оракулом. Одна очень любезная женщина говорила со мною всегда по-русски, без всякого смешения «французского языка с нижегородским». Вдруг она начала отпускать ни к селу ни к городу целые фразы на французском языке.
Я удивился.
— Что ж тут странного? — сказала она. — Посмотрите, что напечатано в моем журнале! В нем доказывают, что нам говорить иначе невозможно, и даже называют мещанами тех, которые желают, чтоб мы изъяснялись по-русски, не примешивая к нашему разговору французских фраз.
Муж этой госпожи, барин очень добрый, также на основании какого-то журнала вообразил себе, что человек просвещенный должен говорить таким странным языком, чтоб его не понимали ни иностранцы, ни русские. Я принялся было доказывать жене, что мнение одного журналиста не может быть законом для всех; что если в целом мире каждый народ говорит своим родным наречием, без примеси французских фраз, то, вероятно, и мы можем обойтись без этого. Барыня не стала меня и слушать. Я обратился к мужу и начал ему доказывать, что иностранные слова с русским окончанием можно употреблять только в таком случае, когда в нашем языке не найдется равносильного слова, которое выражало бы ту же самую мысль.
— Вот, — говорил я ему, — французы взяли у нас слово «степь», да это потому, что их «prairie» и «desert» вовсе не дают верного понятия о том безлесном, но не песчаном, а поросшем травою огромном пространстве земли, которое мы называем степью. И мы также должны усвоивать нашему языку только те слова, без которых решительно не можем обойтись. К чему, например, вы называете гостиную — салоном; говорите вместо всеобщего — универсальный, вместо преувеличения — экзажерация, вместо понятия — консепция, вместо обеспечения — гарантия, вместо раздражения — ирритация, вместо посвящения — инисиация, вместо принадлежности — атрибут, вместо отвлеченный — абстрактный, вместо поразительно — фрапонтно и прочее. Поверьте мне, — продолжал я, — что, употребляя без всякой нужды сотни подобных слов, вы вовсе не доказываете этим вашего просвещения; напротив, вместо того чтоб идти вперед, вы двигаетесь назад. В старину, то есть во времена Петра Великого и вскоре после него, получше вашего умели коверкать русский язык. Теперь, благодаря успехам просвещения и развитию нашей словесности, все эти чужеземные слова, за исключением немногих, исчезли из русского языка; нынче никто не скажет, что он ходил стрелять из фузеи или что мы под Малым Ярославцем одержали над французами знаменитую викторию. Кто нынче будет уверять кого-нибудь в своем респекте и венерации? Кому придет в голову эстимоватъ отличный мерит своего друга, хвастаться своим рангом или сделать презент своей аманте? Кто в наше время назовет заставу — барьером, штык — байонетом и предвещанье — прогностиком? А все это, однако ж, было и, слава богу, прошло. Так из чего же вы бьетесь?…
Мой ученый барин разгневался и назвал меня ограниченным пуристом. Вероятно, он занял это вежливое выражение из того же самого журнала, из которого почерпал всю свою премудрость. Я было сначала и сам рассердился, да тотчас присмирел, потому что вспомнил о собственном своем грехе. Ведь и я также имел глупость слепо верить печатным рассказам, и я также думал, что наши провинциалы только что не ходят на четырех ногах. Тут вся моя досада обрушилась на этих рассказчиков, которые описывают то, чего не видали, и говорят о том, чего не знают. Защитники этих господ оправдывают их тем, что они описывали одну только сторону наших провинциальных нравов, сиречь дурную. Эх, господа, господа! Да ведь односторонность никуда не годится, а особливо когда мы говорим о нравственном достоинстве целого народа! Уж тут всегда эта односторонность превращается или в нелепое похвальное слово, или, не прогневайтесь, в совершенную клевету. «Позвольте, — скажут мне, — да разве Гогарт был человек не гениальный, а ведь в его карикатурах вы найдете не много утешительного». Гогарт! Да это совсем другое дело: карикатура вовсе не имеет притязания на истину: она представляет действительную жизнь всегда в преувеличенно искаженном и даже иногда совершенно искаженном виде. Само название «карикатура» предохраняет уже вас от всякого обмана. Назовите ваши очерки, ваш роман или комедию карикатурою и пишите, что вам угодно. Будьте только остроумны и забавны, всякий скажет вам спасибо, и тот, кто станет кричать, что описания ваши неверны, что вы клевещете, того, пожалуй, и я назову ограниченным пуристом. Да и кому придет в голову требовать от вас правды, когда вы предлагаете ему карикатуру!
Теперь, любезные читатели, сообщив вам сделанное мною открытие, что русские провинциалы точно так же, как и все люди, созданы по образу и подобию божию, я снова поведу с вами речь о нашей матушке Москве. Прошу вас выслушать по-прежнему благосклонно мою стариковскую болтовню, а пуще всего не думать, что я мечу на кого-нибудь одного, когда пишу обо всех. Я желал бы очень походить на хорошего живописца, но только не портретного. И всякому, кто, читая мои записки, скажет: «Э, да я знаю, на кого метит сочинитель! Это вот такой-то!» — я напомню, разумеется со всей должной вежливостью, следующие три стиха покойного Крылова:
Что Климыч на руку нечист — все это знают;
Про взятки Климычу читают,
А он украдкою кивает на Петра!
Да, матушка, ты точно права.
В Москве визиты не забава;
Вот я на Шабловке живу — а ты-то где?
Ну, страшно вымолвить!..
В Немецкой слободе!
Ведь это десять верст!..
Из рукописной комедии
Из предыдущей главы вы можете заключить, любезные читатели, что я, живя в провинции, не всегда умирал от скуки и даже нередко проводил время довольно приятным образом, но, несмотря на это, к концу года я начал призадумываться и грустить по Москве. Нет, что ни говори: в гостях хорошо, а дома лучше. Вот грусть моя превратилась наконец в эту «тоску по родине», ужасную болезнь, от которой, говорят, горные швейцарцы, как мухи, умирают. А как мне умирать вовсе не хотелось, так я поторопился привести в порядок свои дела, взял почтовых, посулил на водку и вихрем помчался
По дороге столбовой
В нашу матушку Москву
Белокаменную.
С какою радостию возвратился я опять на свое старое пепелище! Когда я въехал в Калужскую заставу, Москва показалась мне обетованною страной, земным раем и самым прекраснейшим городом в мире. «Прекраснейшим, — повторит какой-нибудь приезжий, ну, положим, из Одессы. — Да что ж в нем прекрасного? А особливо если вы едете от Калужской заставы к Пресненским прудам? Сначала бесконечная Калужская улица, то есть длинное песчаное поле, по одной стороне которого разбросаны огромные каменные здания, а по другой тянется длинный ряд плохих деревянных домов; потом неопрятный рынок с запачканными лавками, а там Крымский брод со своими грязными огородами и безобразным деревянным мостом. Дальше Зубовский бульвар с тощими липками; рядом с каменными палатами домики, конечно довольно красивые, но все-таки деревянные. Везде какое-то странное смешение городской роскоши с сельской простотою. Везде сады, огороды, овраги, горы, целые поля…» Да это-то мне и по душе! Это-то именно и делает Москву верною представительницей всей России, которая точно так же не походит на все западные государства, как Москва не походит на все европейские города. Русский человек задохнется в каком-нибудь немецком городе. Там везде теснота, люди давят друг друга, а он любит свое родное привольное житье, свое русское раздолье и простор. В России шестьдесят миллионов жителей, а ведь грешно сказать, чтоб им было тесно. И в Москве то же самое; в ней с лишком триста тысяч обывателей, а посмотрите, как они живут просторно. У иного не дом, а избушка, да на дворе-то можно построить двадцать немецких домов, а если захотите, так найдется место и для площади, разумеется также германской. Эти огромные пустыри и разбросанные по всей Москве поля не представляют ли вам в уменьшенном виде беспредельные степи наших восточных и южных губерний? Эти беспрерывные сады не напоминают ли вам о дремучих лесах нашей родины? Эти многочисленные церкви, эти древние обители иноков не возвещают ли всякому святую, православную Русь? Не говорят ли они вам о благочестивом обычае наших предков, которые не оставили нам ни развалин феодальных замков, ни древних дворцов, ни других общественных зданий, но зато всегда в память великих событий воздвигали храмы божии, строили монастыри, и если многие говорят, что у нас нет вовсе исторических памятников, так это потому, что они ищут их вовсе не там, где их должно искать.