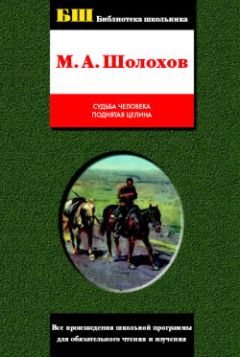Закутанное лицо Настенки горело огнем великой стыдобы. Все собрание смотрело на нее, а она, потупившись от смущения и неловкости, только плечами шевелила, вытирая спиной побелку стены.
– Закрутилась, гада, как ужака под вилами! – не вытерпел Демка Ушаков.
– Всю стену спиной обтерла! – поддержал его рябой Агафон Дубцов.
– Не вертися, лупоглазая! Умела бить – умей собранию и в глаза глядеть! – рычал Любишкин.
Давыдов неумолимо продолжал, но на разбитых губах его уж заскользила усмешка, когда он говорил:
– …Ей хотелось, чтобы я на колени стал, пощады попросил, ключи от амбаров ей отдал! Но, граждане, не из такого мы – большевики – теста, чтобы из нас кто-нибудь мог фигуры делать! Меня в Гражданскую войну юнкера били, да и то ничего не выбили! На коленях большевики ни перед кем не стояли и никогда стоять не будут, факт!
– Верно! – Вздрагивающий, взволнованный голос Макара Нагульнова прозвучал задушевно и хрипло.
– …Мы, граждане, сами привыкли врагов пролетариата ставить на колени. И мы их поставим.
– И поставим в мировом масштабе! – снова вмешался Нагульнов.
– …и в мировом масштабе проделаем это, а вы вчера к этому врагу качнулись и оказали ему поддержку. Как считать, граждане, такое выступление, когда замки с амбаров посбивали, меня избили, а Размётнова сначала связали, посадили в подвал, а потом повели в сельсовет и по пути на него хотели крест надеть? Это – прямое контрреволюционное выступление! Арестованная мать нашего колхозника Игнатенка Михаила кричала, когда вели Размётнова: «Анчихриста ведут! Сатану преисподнюю!..» – и хотела при помощи женщин надеть на шею нательный крест на шнурке, но наш товарищ Размётнов, как и следует коммунисту, не мог на такое издевательство согласиться! Он фактически говорил и женщинам и вредным старухам, которые одурманены поповщиной: «Гражданки! Я не православный, а коммунист! Отойдите с крестом прочь!» Но они продолжали приставать и только тогда оставили его в покое, когда он перекусил шнурок зубами и активно начал отбиваться ногами и головой. Это что такое, граждане? Это прямая контрреволюция! И народный суд жестоко осудит подобных издевателей, как мать того же Игнатенка Михаила.
– Я за свою матерю не ответчик! Она сама имеет голос гражданства, пущай она и отвечает! – крикнул Мишка Игнатенок из передних рядов.
– Так я про тебя и не говорю. Я говорю про тех типов, какие вопили против закрытия церквей. Им не нравилось, когда церкви закрывали, а как сами принудительно хотели надеть крест на шею коммунисту – так это ничего! Ну и здорово же они разоблачили свое лицемерие! Те, что были зачинщиками этих беспорядков и кто активно выступал, – арестованы, но остальные, поддавшиеся на кулацкую удочку, должны опомниться и понять, что они упали в заблуждение. Это я фактически говорю… В президиум неизвестный гражданин бросил записочку, в ней спрашивается: «Верно ли, что все, забиравшие хлеб, будут арестованы с конфискацией имущества и сосланы?» Нет, это неверно, граждане! Большевики не мстят, а беспощадно карают только врагов; но вас, хотя вы и вышли из колхоза, поддавшись уговорам кулаков, хотя вы и расхитили хлеб и били нас, мы не считаем врагами. Вы – качающиеся середняки, временно заблужденные, и мы к вам административных мер применять не будем, а будем вам фактически открывать глаза.
По школе прокатился сдержанный рокот голосов. Давыдов продолжал:
– И ты, гражданочка, не бойся, раскутай лицо, никто тебя не тронет, хотя ты меня и здорово колотила вчера. Но вот если выедем завтра сеять и ты будешь плохо работать, то уж тогда я всыплю тебе чертей, так и знай! Только уж бить я буду не по спине, а ниже, чтобы тебе ни сесть, ни лечь нельзя было, прах тебя возьми!
Несмелый смешок окреп, а пока докатился до задних рядов, вырос в громовитый, облегчающий хохот.
– …Поволынили, граждане, и будет! Зябь перестаивается, время уходит, надо работать, а не валять дурака, факт! Отсеемся – тогда можно будет и подраться и побороться… Я вопрос ставлю круто: кто за Советскую власть – тот завтра едет в поле, кто против – тот пускай семечки лущит. Но кто не поедет завтра сеять, у того мы – колхоз – землю заберем и сами засеем!
Давыдов отошел от края сцены, сел за стол президиума, и, когда потянулся к графину, из задних рядов, из сумеречной темноты, озаренной оранжевым светом лампы, чей-то теплый и веселый басок растроганно сказал:
– Давыдов, в рот тебе печенку! Любушка Давыдов!.. За то, что зла на сердце не носишь… зла не помнишь… Народ тут волнуется… и глаза некуда девать, совесть зазревает… И бабочки сумятются… А ить нам вместе жить… Давай, Давыдов, так: кто старое помянет – тому глаз вон! А?
Наутро пятьдесят выходцев подали заявление с просьбой о принятии в колхоз. Единоличники и все три бригады гремяченского колхоза зарею выехали в степь.
Любишкин предложил было оставить охрану около амбаров, но Давыдов усмехнулся:
– Теперь, по-моему, не надо…
За четыре дня колхоз засеял почти половину своего зяблевого клина. Третья бригада 2 апреля перешла на весновспашку. За все это время Давыдов лишь раз был в правлении. Он кинул в поле всех способных к труду и даже деда Щукаря временно отстранил от обязанностей конюха, послал во вторую бригаду, а сам с рассветом уезжал на участки бригад и возвращался в хутор за полночь, когда по базам уже начиналась побудняя перекличка кочетов.
На затравевшем дворе колхозного правления было тихо, как на выгоне за хутором. Под полуденным солнцем ржавые черепицы амбарной крыши тепло и тускло блестели, но в тени сараев, на примятой траве еще висели литые, тяжелые зерна дымчато-сиреневой росы.
Обчесанная, безобразная в своей худобе овца стояла среди двора, раздвинув захлюстанные ноги, а рядом, припав на колени, проворно толкала вымя белошерстая, как мать, ярка.
Любишкин въехал во двор верхом на маленькой подсосой кобыленке. Проезжая мимо сарая, он озлобленно хлестнул плетью козленка, смотревшего на него с крыши зелеными дьявольскими глазами, буркнул:
– Все бы ты верхолазничал, разнечистый дух! Кызь отседова!
Зол и хмур был Любишкин! Он прискакал из степи и, не заезжая домой, направился в правление. За его мухортенькой кобылкой, глухо побрякивая привязанным к шее балабоном, неся пушистый хвост наотлет, бежал тонконогий, с утолщенными бабками жеребенок. По росту Любишкина кобыла была так мала, что распущенная стременная скошевка болталась чуть не ниже ее колен; казалось, что согбенный всадник, как в сказке, несет ледащую лошаденку промеж своих богатырских ног… Демка Ушаков, смотревший на Любишкина с крыльца, развеселился:
– Ты вроде как Исус Христос, взъежающий в Ерусалим на осляти… До смерти похоже!
– Сам ты ослятя! – огрызнулся Любишкин, подъезжая к крыльцу.
– Ноги-то подбери, а то ты ими землю пашешь!
Любишкин, не удостаивая Демку ответом, спешился, обмотал повод вокруг перильца, сурово спросил:
– Давыдов тут?
– Тут. Сидит, скучает, тебя увидеть не чает. Третьи сутки не жрет, не пьет, одно гутарит: «Где мой незабвенный Павло Любишкин? Жизни без него решаюся, и белый свет мне не мил!»
– Поговори-ка у меня ишо! Поговори! Наступлю вот на язык.
Демка покосился на любишкинскую плеть, умолк, а Любишкин потопал в курень.
Давыдов с Размётновым и представительницами женского собрания только что окончили обсуждение вопроса об устройстве детских яслей. Любишкин подождал, пока бабы вышли, подвинулся к столу. От ситцевой рубахи его, распоясанной и запыленной на лопатках, дохнуло пóтом, солнцем и пылью…
– Приехал я с бригады…
– Чего приехал? – Давыдов пошевелил бровями.
– Ничего не выходит! Осталося у меня к труду способных двадцать восемь человек, и энти не хотят работать, злодырничают… Никакой управы на них не найду. Зараз работает у меня двенадцать плугов. Плугарей насилу собрал. Один Кондрат Майданников ворочает, как бык, а что Аким Бесхлебнов, Куженков Самоха или эта хрипатая заноза, Атаманчуков, и другие, то это горючие слезы, а не плугари! Как, скажи, они сроду за чапиги не держались! Пашут абы как. Гон пройдут, сядут курить, и не спихнешь их.
– Сколько выпахиваете в день?
– Майданников и я по три четверти подымаем, а энти… кругом по полдесятины. Ежели так будем пахать, к Покрову прийдется кукурузку-то сеять.
Давыдов в молчании постучал донышком карандаша по столу, вкрадчиво спросил:
– Так ты чего приехал? Чтобы мы тебе слезы утерли? – и злобно заиграл глазами.
Любишкин ощетинился:
– Я не со слезьми приехал. Ты мне людей давай да плугов прибавь, а шутки вышучивать я и без тебя умею!
– Шутить-то ты умеешь, факт, вот работу поставить – гайка у тебя слаба! Тоже, бри-га-дир! Управы не найдет на лодырей! Факт, что ты не найдешь, если дисциплину распустил и всякую терпимость веры развел!
– Ты ее найди, дисциплину-то! – повысил голос вспотевший от волнения Любишкин. – Всему делу голова там – Атаманчуков. Он мне народ мутит, подбивает выходить из колхоза, а начни его, стерву, выкидывать, – он и других за собой потянет. Да что ты, Семен Давыдов, на самом деле, смеешься надо мной, что ли? Каких-то калек да хворых навешал на меня и работу норовишь спрашивать? Куда я того же деда Щукаря дену? Его, черта, балабона, на бахчу становить в неподвижность, замест чучела грачей пужать, а вы мне его вперли в бригаду, навязали, как на цыгана матерю! Куда он гож? За плугом – не может, погонычем – тоже. Голос у него воробьиный, его быки и за человека не считают, ничуть не пужаются! Повиснет на налыгаче, чертяка клешнятый, а пока гон пройдет – раз десять упадет! То он чирик завязывает, то ляжет, ноги задерет выше головы и грызь свою вправляет. А бабы быков кинут, заиржут, зашумят: «У Щукаря грызь выпала!..» – и опрометью бегут любопытствовать, как он, Щукарь этот, грызь обратно в свое нутряное место впихивает. Ить это спектакля, а не работа! Мы уже его вчера в кашевары определили, через его грызь, но он и там негожий и вредный! Сала выдал ему затолочь в кашу, а он его слопал, а кашу пересолил и сварил с какими-то пенками… Ну куда я его дену? – у Любишкина под черными усами бешено задрожали губы. Он поднял плеть, обнажив под мышкой вылинявшую и обопревшую от пота круговину грязной рубахи, с отчаянием сказал: