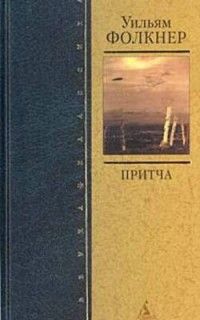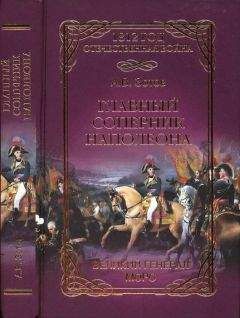Так что мне даже не нужно было прощать вас: все мы четверо уже пребывали в этом реальном, общем, ни страстном, ни бесстрастном перемирии, нам было не до взаимных упреков или прощений, так как предстояло утвердить, укрепить искупление вашего греха и то воздаяние, которое мы — он — получили благодаря вам. Я ни разу не видела вас и теперь поверила, что никогда не увижу, не понадобится видеть, что, когда вы наконец встретитесь, чтобы взглянуть друг на друга, я буду лишней и ему не потребуется от меня ни разрешения, ни поддержки. Нет, это я простила, смогла наконец простить само прошлое, сменила свое горькое и яростное бессилие на дом, бухту, гавань, приемлемую, подходящую для него, он даже избрал бы ее сам, будь у него выбор, обретенную, даже если вы не хотели, чтоб она была во Франции, благодаря вам, и теперь, поскольку он был свободен от вас, мы с Марией могли быть свободны тоже. Потом стали призывать его возраст. Он пошел в армию почти с радостью — насколько я понимаю, не пойти он не мог, однако же, как вы знаете, неизбежное можно принимать по-разному. Но он пошел чуть ли не с радостью, отслужил свой срок — я чуть было не сказала «отбыл», но разве я не сказала, что он пошел чуть ли не с радостью, — и вернулся домой, тут я поверила, что он свободен от вас — что вы с ним сочлись, сквитались ответственностью и угрозой; теперь он был французским гражданином и французом не только юридически, но и морально, потому что дата его рождения подтверждала право на первое и он только что снял форму, в которой сам подтвердил свое право и привилегию на второе; поверила, что не только он свободен от вас, но вы оба свободны друг от друга: вы освободились от ответственности, поскольку, дав ему жизнь, вы теперь создали возможность прожить ее достойно, безбедно и поэтому не должны были ему ничего; он освободился от угрозы, потому что вы уже не вредили ему и могли больше не бояться его.
Да, наконец-то он был свободен от вас, по крайней мере так мне казалось. Или, скорее, вы были свободны от него, потому что бояться следовало все-таки ему. Если в нем и оставалась какая-то толика опасности для вас, он сам уничтожил бы ее надежнейшим средством: браком, женой и семьей; ему пришлось бы возложить на себя столько хозяйственных забот, что было бы некогда думать о своих моральных правах; семья, дети — самые прочные и нерасторжимые узы, чтобы надежно опутать в настоящем, накрепко связать в будущем и навсегда оградить от горя и страданий (разумеется, их у него не было в том смысле, что я говорю, потому что он по-прежнему ничего не слышал о вас) прошлого.
Но, видимо, я ошибалась. Ошибалась всегда, приписывая вам мысли, чувства и страхи, связанные с ним. И больше всего ошибалась теперь, когда, по-моему, вы должны были решить, что, подкупив его независимостью от себя, вы лишь вырвали жало у змея, но не уничтожили его, и брак создает для вас угрозу в детях, которые могли бы отказаться от подкупа фермой. Любой брак, даже этот. И сперва казалось, что ваш сын, словно в какой-то инстинктивной сыновьей преданности, стремится оградить, защитить вас от этой угрозы. Мы давно строили планы насчет его женитьбы, и теперь, когда он был свободным, взрослым мужчиной, гражданином, наследником фермы, потому что мы — муж и я уже знали, что у нас не будет детей, а военная служба (так мы тогда думали) была уже навсегда позади, стали подыскивать невесту. Но он отказался дважды, отверг двух невест, которых мы подобрали ему, — целомудренных, богатых, недурных собой, и даже мы не могли понять, отвергает ли он девушек или женитьбу. Может быть, он отвергал и то, и другое, будучи вашим сыном, хотя, насколько мне известно, он по-прежнему не знал о вашем существовании; не исключено, что и то и другое он унаследовал от вас: отрицание брака, потому что он появился на свет без него; придирчивый выбор пары, так как своим рождением он обязан лишь пылкой страсти и в свою очередь ощущал, считал, верил, что по праву своего рождения заслуживает лучшей.
Или же еще хуже для вас: поистине ваш сын, он требовал не мести вам, а кары: он отказался от двух выбранных нами невест, не только богатых, но целомудренных, ради этой и предпочел ее не одной, а обеим. Я не знала, мы не знали, мы знали только, что он отказался, отверг именно так, как я сказала, это было не столько отказом, сколько отрицанием, мы решили, что жениться он еще не готов, что ему хочется еще немного холостяцкой, нестесненной свободы, которую он получил — получил? — обрел лишь вчера, когда снял военную форму. Что ж, мы могли подождать и ждали; время шло, и нам казалось, что времени еще много, потому что брак долог. Потом — неожиданно, внезапно для нас, знавших лишь работу и хлеб, не политику и славу, — началась война, и было достаточно времени или нет, прав он был, выжидая или нет, уже не имело значения. Потому что теперь он не стал ждать; он ушел в первые же дни, достав из сундука старую, пропахшую нафталином форму, и мы тоже поспешили уйти; вы знаете, где находится ферма — находилась (нет, все еще находится, потому что она должна уцелеть, стать почвой для того, что вы в конце концов позволите нам), и незачем объяснять, почему мы были вынуждены ее покинуть, так как вам по должности приходится иметь дело с растерянной, измученной массой гражданских, бросивших жилье, чтобы освободить место для ваших побед.
Он даже не стал ждать, когда призовут его возраст. Тот, кто не знал его, мог бы решить, что молодой холостяк принимает даже войну как последний, отчаянный шанс избежать брачных уз, но, разумеется, был бы не прав, что он и подтвердил через два года. Но мы прекрасно понимали, в чем тут дело. Он теперь был французом. Франция требовала от него за эту привилегию и право, за эту уверенность и независимость лишь готовности защищать ее и их, и он пошел выполнять свой долг. Потом вдруг Франция (и вся Западная Европа) услышала ваше имя; ваше лицо было знакомо каждому ребенку во Франции, потому что вы должны были спасти нас — вы, самый главный из всех, должны были не командовать нашими армиями и армиями союзников, командовать ими было не нужно, потому что они испытывали тот же страх, угрозу, что и все, их нужно было только вести, успокаивать, подбадривать, и делать это должны были вы, потому что они верили, доверяли вам. Но я знала больше. Не лучше, просто больше; еще до войны мне достаточно было отправить эту вещь, — она снова чуть пошевелила сжатым кулаком, лежащим в ладони другой руки, — в редакцию почти любой газеты, чтобы узнать не только вашу фамилию, но и вашу должность, и местопребывание. Нет, нет, вы начали войну не затем, чтобы подвергнуть его дальнейшему испытанию как своего сына и француза, скорее уж, раз война началась, его участь, судьба — воспользовались ею, чтобы представить сына отцу. Понимаете? И вы, и он спасаете Францию, он на своем незаметном месте, вы на своем высоком и недосягаемом, и в день победы вы наконец встретитесь друг с другом лицом к лицу, и он по-прежнему будет незаметным, если не считать смелости, преданности и верности, которые будет символизировать и утверждать медаль, приколотая вами ему на грудь.
Разумеется, дело было в этой девушке; вот та его кара и месть, которых вы страшились: проститутка, марсельская шлюха должна была стать матерью ваших внуков. Он сказал нам о ней, приехав в отпуск на втором году войны. Мы — я — конечно, воспротивились, но он унаследовал от вас и способность добиваться своего. О да, он рассказывал нам о ней: хорошая девушка, сказал он, ведущая из-за судьбы, нужды, необходимости (у нее есть старая бабушка) жизнь, которая ей не подходит. И он был прав. Мы поняли это, как только он привез ее к нам. Он был прав. Она хорошая девушка, по крайней мере сейчас, во всяком случае, с тех пор, может, она всегда была хорошей девушкой, как считает он, или, может, с тех пор, как полюбила его. В конце концов, как могли мы противиться их браку, если тут видно, что может сделать любовь: погубить женщину и спасти ее. Но теперь это неважно. Вы никогда не поверите, возможно, не рискнете, не посмеете поверить, что он никогда не имел бы к вам никаких претензий, что дети этой шлюхи носили бы фамилию не его отца, а моего. Вы ни за что не поверите, что они никогда не узнали бы, чья кровь течет в их жилах, как не узнал бы и он, если б не этот случай. Но уже слишком поздно. Все это позади; я представляла себе, что вы впервые увидите его на поле последней победной битвы, прикалывая медаль к его мундиру; но вы впервые увидите его — нет, даже не увидите, вас там даже не будет привязанным к столбу, вы увидите его — если придете взглянуть на него, но вы не придете — через плечи солдат и наведенные винтовки.
Ее сжатая рука взлетела, мелькнула почти неуловимо для Глаза, и маленький старый медальон из чеканного золота сверкнул в воздухе, скользнул по крышке пустого стола, потом раскрылся, будто карманные часики, и замер, обнажив две миниатюры на слоновой кости.
— Значит, у вас действительно была мать. На самом деле. Когда в ту ночь я впервые увидела внутри второе лицо, то сперва подумала, что это ваша жена, или возлюбленная, или любовница, — и возненавидела вас. Но теперь я все знаю и прошу прощенья, что приписывала вам такую слабость — способность заслужить тепло человеческой ненависти. — Она поглядела на него сверху вниз. Выходит, я слишком долго ждала, чтобы предъявить вам сто. Нет, я опять ошибаюсь. Было бы поздно в любой миг; едва я решила бы использовать его как оружие, пистолет дал бы осечку, лезвие сложилось бы при ударе. И, конечно же, вы знаете, в чем будет заключаться моя следующая просьба.