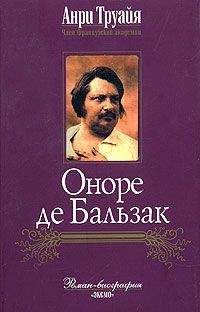— Государь, — сказала Мари, складывая руки как будто для молитвы, — на свете есть одно королевство, где вас обожают. Ваше величество наполняет его своей славой, своей силой; и в этом королевстве «мессир» означает: мой горячо любимый повелитель. — Она разомкнула объятия и кокетливо коснулась пальчиками сердца короля. Вся ее речь была так нежно смодулирована (слово, которое употребляли тогда, говоря о музыке любви), что Карл обнял Мари, поднял ее в неистовом порыве страсти, которые по временам охватывали его, посадил ее к себе на колени и прижался к ее лбу, на который ниспадали кокетливо уложенные локоны.
Мари решила, что сейчас наступил благоприятный момент, и отважилась несколько раз его поцеловать. Карл скорее перенес, чем принял эти поцелуи, но сам на них не ответил. Потом, между двумя поцелуями, она сказала:
— Если мои люди не обманывают меня, ты всю эту ночь прошатался по Парижу, как в те времена, когда ты был младшим в семье и вел разгульную жизнь. Разве не ты ударил стражника и ограбил нескольких честных горожан? Кто эти люди, которых сейчас сторожат в моем доме и которых ты считаешь такими тяжелыми преступниками, что даже запретил кому бы то ни было их видеть? Никогда еще ни одну девушку не охраняли так неусыпно, как стерегут сейчас этих людей, — им не дают ни хлеба, ни воды. Немцы из свиты Солерна никого и близко не подпускают к той комнате, куда ты их посадил. Что это все, в шутку или всерьез?
— Да, вчера вечером, — сказал король, выходя из состояния задумчивости, — я действительно пустился бегать по крышам вместе с Таванном и братьями Гонди; мне хотелось провести эту ночь с товарищами моих былых проказ, но ноги уже стали не те; мы не рискнули прыгать через улицы. Два раза мы, правда, все-таки перепрыгнули через дворик с одной крыши на другую. На последнем дворе в двух шагах отсюда, когда мы перескочили на конек крыши и прижались к трубе, мы с Таванном решили, что с нас хватит. Каждый из нас, будь он один, вероятно, ни за что бы не прыгнул.
— Ручаюсь, что ты прыгал первый! (Король улыбнулся.) Я ведь знаю, почему ты себя не бережешь.
— О моя милая провидица!.. Съешь пес всех колдунов! Они меня всюду преследуют, — сказал король, снова становясь серьезным.
— Мое единственное колдовство — это любовь, — сказала Мари, улыбаясь. — Разве, начиная с того счастливого дня, когда ты меня полюбил, я не угадывала каждый раз твои мысли? А если ты позволишь мне сказать все, что я думаю, то знай: мысли, которые тревожат тебя сейчас, недостойны короля.
— А разве я король? — сказал Карл с горечью.
— Но ты ведь можешь стать им! А как сделал Карл VII, имя которого ты носишь? Он слушался своей возлюбленной, мессир, и он вернул себе королевство, захваченное тогда англичанами, так же как твое теперь захвачено реформатами. Последние твои действия начертали тебе путь, которым надо следовать. Уничтожь еретиков.
— Ты же не одобряла моего плана, — сказал Карл, — а теперь вдруг...
— Он уже осуществлен, — сказала Мари, — притом я держусь того же мнения, что и королева Екатерина: лучше было сделать все своими руками, чем поручать это Гизам.
— Карлу VII приходилось воевать всего-навсего с людьми, в то время как против меня ополчились идеи, — ответил король. — Человека можно убить, но слова убить нельзя. Император Карл V отказался бороться с ними; именно они довели до изнеможения его сына, дона Филиппа; все мы, короли, погибнем в этой борьбе. На кого мне опереться сейчас? Справа — стан католиков: оттуда мне угрожают Гизы; слева — кальвинисты: они никогда не простят мне убийства несчастного адмирала Колиньи, которого я называл отцом, и все августовское кровопролитие[145]. К тому же они хотят уничтожить королевскую власть. И, наконец, прямо передо мной моя мать...
— Арестуй ее, царствуй один, — прошептала Мари на ухо королю.
— Вчера еще я собирался это сделать, а сегодня я уже не хочу. Тебе-то хорошо говорить об этом.
— Между дочерью аптекаря и дочерью врача расстояние не так уж велико, — сказала Мари Туше, которая любила пошутить над своим мнимым происхождением.
Король нахмурил брови.
— Не говори таких дерзостей, Мари. Екатерина Медичи — моя мать, и тебе следовало бы трепетать...
— А чего же ты боишься?
— Того, что меня отравят! — сказал, наконец, король в ярости.
— Бедное дитя мое! — воскликнула Мари, еле сдерживая слезы. Она увидела, что огромная внутренняя сила уживается в короле со слабостью духа, и это ее растрогало.
— Ах! Ты заставляешь меня ненавидеть королеву Екатерину, — сказала она, — а я считала ее такой доброй. Сейчас во всех ее добрых деяниях я вижу одно коварство. Иначе для чего бы ей быть такой ласковою со мной и вместе с тем причинять тебе столько горя? За время моей жизни в Дофине я много всего узнала о начале твоего царствования. Ты все от меня скрываешь, а ведь королева-мать — причина всех твоих бед.
— Почему? — озабоченно спросил король.
— Женщина, у которой душа и намерения чисты, использует хорошие стороны любимого человека, чтобы приобрести власть над ним. Но если женщина не хочет кому-то добра, она овладевает этим человеком, потакая его дурным наклонностям. А королева превратила многие твои достоинства в пороки и вместе с тем заставила тебя считать свои дурные качества добродетелями. Допустимо ли, чтобы так поступала родная мать? Стань же тираном, таким, каким был Людовик XI, сумей внушить к себе ужас. Последуй примеру дона Филиппа, прогони итальянцев, устрой охоту на Гизов и конфискуй все земли у кальвинистов. В этом одиночестве ты возвысишься и спасешь свою корону. Обстоятельства тому благоприятствуют. Брат твой в Польше.
— В политике мы оба с тобою дети, — с горечью сказал Карл, — мы умеем только любить друг друга. Увы, моя милая, вчера я обо всем этом думал и многое хотел совершить. И что же! Это был карточный домик, и моя мать разрушила его одним дуновением. Когда глядишь на все эти вопросы издалека, они кажутся вершинами гор, очертания которых ясно рисуются в небе. И так легко сказать себе: я покончу с кальвинизмом, я призову к порядку Гизов, я порву связи с папской курией, я буду опираться только на мой народ, на горожан. Словом, издалека все кажется таким простым. Но стоит только начать подниматься в горы и приближаться к этим вершинам, как трудности осаждают тебя. Главари наваррской партии меньше всего пекутся о кальвинизме, а герцоги Гизы, эти закоренелые католики, пришли бы в отчаяние, если бы кальвинисты потерпели вдруг неудачу. Каждый прежде всего отстаивает свои интересы, и религиозные убеждения служат только ширмой ненасытному честолюбию. Партия Карла IX самая слабая из всех. Партия короля Наваррского, короля польского, герцога Алансонского, принцев Конде, герцогов Гизов, моей матери — все они объединяются одна с другой и оставляют меня без поддержки даже в моем совете. Среди всех этих враждующих начал моя мать оказалась сильнее всех, она только что доказала мне всю несостоятельность моих планов. Наши подданные издеваются над правосудием. Нам нужен топор Людовика XI, того самого короля, которого ты сейчас называла. Парламент не способен осудить ни Гизов, ни короля Наваррского, ни принцев Конде, ни моих братьев: он сочтет это разжиганием пожара в стране. Надо быть храбрым, чтобы начать убивать людей. Королю ничего другого и не остается делать, когда он окружен всеми этими наглецами, уничтожившими всякое правосудие. Но где же найти верных слуг? После того, как я утром побывал на совете, мне все опротивело: всюду одни измены, одна вражда. Я устал быть королем, я хочу только одного — умереть в покое.
И Карл IX снова погрузился в какую-то мрачную дремоту.
— Все опротивело! — с горечью повторила Мари Туше, боясь потревожить впавшего в глубокое оцепенение короля.
Карл действительно пребывал в полной прострации и тела и духа: он от всего устал и во всем изверился. Горе его было необъятно, он перестал уже надеяться, что выйдет победителем из этой борьбы, а трудности росли с такой неимоверною быстротою, что способны были устрашить даже гения. Огромный душевный подъем, который был у короля несколько месяцев тому назад, повлек за собою столь же стремительный спад. К этому присоединился и очередной приступ болезни, которой он страдал. Приступ этот начался, едва только он покинул зал, где происходило заседание государственного совета. Мари увидела, что король был в эту минуту в таком состоянии, когда больно и неприятно все, вплоть до любви. Она стала перед ним на колени, уткнув голову в колени короля, погрузившего руку в ее волосы, и оба они застыли так, не проронив ни одного слова, не испустив ни единого вздоха. Карл IX погрузился в какую-то летаргию бессилия, а Мари вся оцепенела от отчаяния, которое охватывает любящую женщину, когда она видит ту грань, за которой кончается любовь. Оба они долго пребывали в глубочайшем молчании. Это был один из тех часов, когда любая мысль причиняет боль, когда тучи душевной бури затемняют все, даже самые светлые воспоминания. Мари готова была считать и себя виновницей этого ужасающего упадка сил. Она в страхе спрашивала себя: не могло ли быть так, что все безмерные радости любви, которые испытал с ней король, что вся его неистовая страсть, с которой у нее не было сил бороться, подорвали телесные и душевные силы Карла IX? Когда она подняла глаза, которые, как и все ее лицо, были в слезах, она увидела слезы на глазах и на совершенно бледных щеках короля. Это внутреннее единение, которое сопутствовало им всегда, даже в скорби, до такой степени растрогало Карла IX, что он вышел из своего оцепенения, как конь, боков которого коснулись шпоры. Он обнял Мари и, прежде чем она могла угадать его намерение, уложил ее на кушетку.