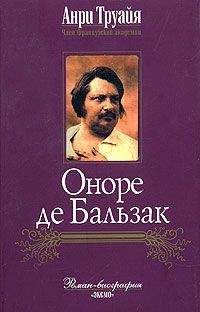Когда с первыми лучами зари огни мастерской побледнели, король, которого граф Солерн оставил там одного, услыхал, как кто-то открывает дверь, и увидел свою мать, появившуюся в предрассветных сумерках, словно привидение. Как он ни был нервен и впечатлителен, Карл IX даже не вздрогнул, хотя в такие минуты это видение должно было показаться особенно фантастическим и страшным.
— Государь, — сказала она, — вы себя убиваете.
— Я только помогаю сбыться предсказаниям гороскопа, — сказал король с горькой усмешкой. — Но вы ведь, матушка, тоже не спите по ночам, как и я?
— Да, мы оба сегодня бодрствовали, государь, но только с разными целями. Когда ты шел совещаться на открытом воздухе со своими злейшими врагами, втайне от твоей матери, взяв с собою разных Таваннов и Гонди, и притворялся, что отправился на ночную прогулку, я читала донесения с доказательствами страшного заговора, в котором участвует твой брат, герцог Алансонский, твой шурин, король Наваррский, принц Конде, половина всей нашей знати. Они хотят ни больше, ни меньше, как низложить тебя и захватить в плен. Они уже собрали пятьдесят тысяч отборных войск.
— Ах, вот как! — недоверчиво протянул король.
— Твой брат хочет стать гугенотом, — сказала королева.
— Мой брат переходит к гугенотам? — воскликнул Карл, раскаляя железо, которое он держал в руках.
— Да, герцог Алансонский, ставший гугенотом в душе, вскоре станет им и на деле. У твоей сестры, королевы Наваррской, не осталось почти никакого чувства к тебе. Она любит герцога Алансонского, она любит Бюсси, она любит также маленького Ламоля.
— Что у нее за сердце! — сказал король.
— Маленький Ламоль, — продолжала королева, — хочет вырасти и решил, что ему это лучше всего удастся, если он поставит над Францией короля по своему выбору. Его тогда могут сделать коннетаблем.
— Проклятая Марго! — воскликнул король. — Вот что значит сделаться женою еретика!
— Все это было бы еще ничего. Но они в союзе с главою младшей ветви дома, которого ты вопреки моему желанию приблизил к престолу и которому хочется, чтобы вы все поубивали друг друга. Род Бурбонов враждует с родом Валуа, знайте это, государь! Представителей младшей ветви королевского дома следует всегда держать в крайней бедности: это ведь заговорщики от рождения. И просто глупо давать им оружие тогда, когда у них его нет, и позволять им брать его самим. Надо, чтобы никто из принцев младшей ветви не мог поднять голову; вот закон, которому должны следовать короли. Так поступают все азиатские султаны. Все доказательства сейчас у меня в кабинете, я просила тебя подняться туда еще вчера вечером. Но у тебя были другие планы. Если мы сейчас в течение месяца не наведем порядок, тебя ждет участь Карла Простоватого[142].
— В течение месяца! — воскликнул Карл, ошеломленный совпадением этого срока с тем, что этой же ночью просили принцы. «Через месяц мы станем хозяевами...» — подумал он, припоминая их слова. — А доказательства у вас есть, государыня? — спросил он громко.
— Они неопровержимы, мессир, — они идут от дочери моей Маргариты. Она испугалась возможных последствий этого заговора, и, несмотря на нежные чувства, которые она питала к твоему брату, герцогу Алансонскому, она на этот раз ближе к сердцу приняла интересы трона и всего дома Валуа. В награду за все она просит, чтобы мы пощадили Ламоля. Но, по-моему, это опасный негодяй, с которым надо разделаться, так же как и с графом де Коконна, приближенным твоего брата. Что же касается принца Конде, то этот мальчишка готов согласиться на все, только бы меня кинули в реку; может быть, он просто после свадьбы хочет отблагодарить меня за то, что я нашла ему такую хорошенькую жену. Это — серьезное обстоятельство, мессир. Ты говоришь о предсказаниях!.. Мне известно одно из них, которое гласит, что трон Валуа перейдет к Бурбонам, и, если мы не примем мер, пророчество это осуществится. Не ополчайся только на сестру, она себя достойно вела в этом деле. Сын мой, — сказала Екатерина, помолчав и придав голосу выражение нежности, — существует немало злонамеренных сторонников Гизов. Они хотят посеять рознь между тобой и мной. А ведь наши интересы во всем совпадают, и таких, как мы, во всем государстве только двое! Подумай об этом. Я знаю, ты упрекаешь себя за Варфоломеевскую ночь, ты обвиняешь меня в том, что я толкнула тебя на эту расправу с гугенотами. Так знай, католичество должно служить связующим звеном между Испанией, Францией и Италией — тремя странами, которые, если только они будут умело следовать определенному тайному плану, могут объединиться со временем под началом дома Валуа. Не лишай себя этой возможности, не выпускай из рук те нити, которыми единая вера объединит все три государства. Почему бы дому Валуа и дому Медичи не использовать во имя собственной славы план Карла V, государя, которому не хватило на это разума? Отправим в Америку потомков Иоанны Безумной: они ведь туда стремятся. Став хозяевами во Флоренции и в Риме, Медичи сумеют подчинить тебе всю Италию. Они закрепят все твои привилегии договором о торговле и о союзе, признав твои сюзеренные права на земли Пьемонта, Милана и Неаполя. Вот, сын мой, те причины, которые заставили нас не на жизнь, а на смерть драться с гугенотами. Почему ты заставляешь нас все это повторять тебе снова и снова? Карл Великий совершил ошибку, двинувшись на Север. Да, сердце Франции — в Лионском заливе, а Испания и Италия — это ее две руки. И этими руками можно обнять Средиземное море, которое подобно корзине, куда падают сокровища Востока и откуда из-под носа Филиппа II их сейчас вытаскивают венецианцы. Если дружба с Медичи и твои законные права позволят тебе завладеть Италией, то, применив силу, ты сделаешь своей Испанию; впрочем, ты, может быть, даже унаследуешь ее корону. Надо в этом опередить честолюбивый Австрийский дом, которому гвельфы[143] готовы были продать Италию и который и по сию пору еще мечтает об Испании. Не беда, что твоя жена происходит из этого дома, — низвергни Австрию, задуши ее в своих объятиях. Австрийцы — враги Франции, это они ведь оказывают помощь реформатам. Не слушай людей, которые радуются нашей размолвке и которые мутят тебе голову, стараясь убедить, что в доме у тебя есть враг и что этот враг — я! Разве я препятствовала тебе иметь наследников? Почему у твоей любовницы родился сын, а у королевы — дочь? Почему у тебя нет сейчас троих сыновей, которые пресекли бы чаяния всех бесчисленных заговорщиков? Что я могу на это ответить? Разве герцог Алансонский вступил бы в заговор, если бы у тебя был сын?
Сказав это все, Екатерина вперила в Карла IX магнетический взгляд хищной птицы, которая нацелилась на свою жертву. Дочь Медичи была в эту минуту хороша своей ни с чем не сравнимой красотой: ее настоящие чувства сверкали на ее лице, где, как на лице игрока, увидевшего зеленый стол, возгорались сотни самых страстных желаний. Для Карла IX она в эту минуту перестала быть просто матерью: он увидел в ней мать армий и империй (mater castrorum), как ее тогда называли. Екатерина расправила крылья своего гения и смело воспарила в сферы высокой политики всех Медичи и Валуа, развертывая перед сыном головокружительные планы, которыми она в свое время напугала Генриха II. Планы эти, перешедшие потом от Медичи к Ришелье, так и остались лежать в кабинетах Бурбонов. Но Карл IX, видя, сколько мер предосторожности приняла его мать, втайне думал, что меры эти действительно необходимы, и не мог только решить, с какою целью она их принимала. Опустив глаза, он задумался. Слова эти, каковы бы они ни были, не могли рассеять его подозрений. Екатерина была поражена, увидав, как глубоко гнездится эта подозрительность в душе ее сына.
— Итак, сын мой, ты, видно, не понимаешь меня? Что мы значим оба, ты и я, перед лицом вечности королевского трона? Неужели ты думаешь, что у меня есть иные стремления, кроме тех, которые ставят себе целью господство над миром?
— Государыня, я пойду с вами в ваш кабинет. Надо действовать...
— Действовать! — воскликнула Екатерина. — Нет, пусть действуют они, а мы поймаем их с поличным, и тогда правосудие избавит тебя от всего. Бога ради, сын мой, сделай вид, что мы ничего не знаем!
Королева ушла. Король некоторое время оставался один. Он был глубоко удручен.
«Кто же из них расставляет мне западни? — подумал он. — Ее ли это сторонники обманывают меня или те, другие? Deus! Discerne causam meam[144], — стал молиться он со слезами на глазах. — Как тяжко мне жить! Пусть это будет естественная смерть или насильственная, все равно какая, лучше она, чем эти мучительные терзания, — добавил он, ударив молотом по наковальне с такою силой, что своды Лувра задрожали. — Господи! — сказал он, выходя на воздух и глядя на небо. — Во имя твоей святой веры я сейчас борюсь, ниспошли же мне ясность твоего взгляда, дабы проникнуть в намерения моей матери, когда я буду допрашивать Руджери!»