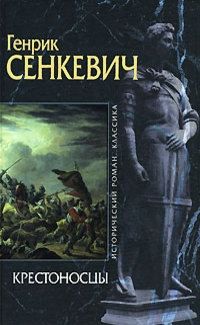– Ну, унеслась буря? – вздохнул Свирский с облегчением. – Минуты не усидит спокойно, невероятно трудно с ней.
– Какое интересное у нее лицо? – сказала Марыня. – А можно взглянуть на портрет?
– Пожалуйста. Почти окончен, – ответил Свирский.
Марыня и Поланецкий подошли ближе. Им не пришлось придумывать комплименты; восхищение их было неподдельным. Акварельный портрет по выразительности и теплоте колорита мог соперничать с написанным маслом и вместе с тем необычайно полно передавал характер Основской. Свирский спокойно выслушал похвалы, не скрывая, что портрет и ему самому нравится. Затем, прикрыв, отнес его в темный угол мастерской, усадил Марыню на заранее приготовленный стул и стал пристально в нее всматриваться.
Его упорный взгляд смущал ее, и она слегка покраснела. А Свирский бормотал с довольной ухмылкой:
– Другой тип, другой… как небо и земля!
Он то прищуривался, приводя Марыню в еще большее смущение, то отступал к мольберту, продолжая вглядываться в нее и говоря как бы сам с собой:
– Там чертовщинку надо было уловить, а тут – женственность.
– Ну, если вы сразу это подметили, – отозвался Поланецкий, – портрет выйдет что надо.
Свирский отворотясь от мольберта и Марыни и показав свои крепкие зубы, весело улыбнулся Поланецкому.
– В том и дело! Женственность – и сугубо польская – вот главное в лице вашей жены.
– Ее-то вы и ухватите, как черта на том портрете.
– Стась? – воскликнула Марыня.
– Я только повторяю слова пана Свирского.
– Ну, не черта, а скажем, чертенка, с вашего позволения… И хорошенького, и опасного. Когда рисуешь, все это невольно подмечаешь. Пани Основская – любопытный тип.
– Почему же?
– А вы на ее мужа обратили внимание?
– Я была так поглощена ею, что не до него было.
– Вот видите, она его затмила, при ней его не замечаешь, но хуже то, что и она его не замечает, а он ведь добрейший малый, на редкость деликатен и хорошо воспитан, очень богат и совсем не глуп – и в придачу безумно ее любит. – Свирский сделал несколько штрихов, рассеянно протянув? – Любит безу-умно… Поправьте, пожалуйста, волосы здесь, над ухом… Если ваш муж охотник поболтать, ему не повезло: я за работой рта не закрываю, Букацкий говорит, что слова не вставишь. Она видите ли, кокетка, хотя, может, и чиста, как слеза. Холодное сердце и горячая голова… Опасное сочетание! Ух, какое опасное! Романы глотает дюжинами – само собой, французские… По ним психологию изучает, черпает представление о женской натуре, ее загадочности – и отыскивает загадочность в себе, хотя ей она ничуть не свойственна, нахватывается все новых претензий – ум свой развращает и развращенность эту принимает за ум, а мужа ни во что не ставит.
– Да вы, оказывается, страшный человек? – заметила Марыня.
– Пан Свирский, пан Свирский? – воскликнул Поланецкий. – Напугали вот мою жену, она завтра к вам ехать побоится.
– А чего же бояться. Она – совсем другой тип… Основский-то не глуп, но вообще люди, особенно, прошу прощения, женщины, до того ограниченны, что ценят только ум самоуверенный, валящий наповал, как обух, полосующий, как бритва, или жалящий, как змея. Слава богу, наблюдал сто раз!.. – И снова устремил взгляд на Марыню, прищурив один глаз. – Вообще, до чего все недалекие! Я часто спрашивал себя: ну почему порядочность, чистосердечность и такая вещь, как доброта, ценятся меньше, чем так называемый ум? Почему к людям обычно подходят с двумя мерками: умен или глуп, а не говорят, к примеру, добродетельный или порочный; понятия эти даже из употребления вышли, кажутся смешными.
– Потому что ум – это светильник, озаряющий путь и порядочности, и доброте, и чистосердечию, – сказал Поланецкий. – Иначе они нос себе расквасят или – что еще хуже – разобьют носы другим.
Марыня не проронила ни слова, но на лице ее было на писано: «Какой умница мой Стась!»
«Умница» прибавил между тем:
– К Основскому это не относится, я совсем его не знаю.
– Основский ее любит, как только можно любить жену или ребенка, как единственное свое счастье, а у нее голова набита разным вздором, и взаимностью она ему не отвечает. Я человек неженатый, женщины мне интересны, и мы иногда по целым дням болтаем, вернее, болтали о них с Букацким, пока они его больше занимали. Так вот, женщин он делит на плебеек, то есть натуры низменные и недалекие, и на патрицианок, аристократок духа, которых отличают благородство и высокие стремления, разумея под этим твердые устои, а не громкие фразы. Отчасти это верно, но я предпочитаю свое деление, оно проще: сердца благодарные и неблагодарные. – Он отошел от рисунка, прищурился, взял зеркальце и, наведя на эскиз, стал изучать отражение. – Вы спрашиваете, что я под этим понимаю? – обратился он к Марыне, хотя она ни о чем его не спрашивала. – А вот что: благодарное сердце чувствует любовь, отзывается на нее, любит за эту любовь и все полнее отдается, ценит ее и чтит. А сердца неблагодарные только ищут любви и, чем она преданней, тем меньше ею дорожат, пренебрегая ею и попирая… Женщину с таким сердцем достаточно полюбить, чтобы она разлюбила. Когда рыбка попалась, рыбаку нечего беспокоиться; так и пани Основская: знает, что муж никуда не денется. По сути, это грубейшая форма эгоизма, простительная разве дикарям, так что храни бог пана Основского, а она со своими раскосыми фиалковыми глазками и подвитой челкой катись ко всем чертям! Писать ее занятно, но жену такую иметь – боже избави! Поверите ли, я из-за того и не женюсь, хотя мне уже за сорок; бессердечную полюбить боюсь.
– Но ведь это легко распознать, – заметила Марыня.
– Черта с два. Особенно если влюбишься без памяти. – Он подался своим атлетическим торсом вперед, приглядываясь к наброску. – Ну, хватит на сегодня! Развел скучищу, мухи дохнут небось. Завтра, когда надоест, хлопните только в ладоши – вот так… С Основской я так не болтаю – она сама любит поговорить. Названиями книжек так и сыплет. Ну да ладно! Что-то я еще хотел вам сказать… Да, вот у вас сердце благодарное!
Поланецкий рассмеялся и пригласил его пообедать с ними, посулив общество Букацкого и Васковского.
– С удовольствием, – отвечал Свирский, – я тут совсем одичал в одиночестве. Небо сегодня ясное и, кстати, полнолуние, поедемте. Колизей посмотрим при луне.
Парадоксы расточать за столом было некому: Букацкий не пришел, сообщив запиской, что нездоров. Зато Свирский с Васковским сразу сошлись и подружились. Свирский только за работой не давал никому слова сказать, а вообще любил и умел слушать, и хотя старик со своими воззрениями казался ему порой комичным, его искренность и доброта располагали к себе. Художника поразила какая-то мистическая одержимость в выражении его лица и глаз. Слушая его рассуждения об ариях, он уже начал мысленно набрасывать его портрет, пытаясь представить, как будет смотреться эта голова, если хорошенько схватить это выражение.
Под конец обеда Васковский спросил, не хочет ли Марыня увидеть папу римского, потому что через три дня прибудут паломники из Бельгии и можно к ним присоединиться. Свирский, у которого была куча знакомых в Риме, в том числе из высшего духовенства, прибавил, что это легко устроить.
– Вы здесь родились? – взглянув на него, спросил Васковский.
– Живу с шестнадцати лет.
– Ах, вот как…
Боясь показаться навязчивым и смущаясь от этого, но желая все-таки знать, кто этот симпатичный человек, Васковский спросил, пересилив робость:
– Вы с Квиринала родом… или из Ватикана?
– Из Погнембина, – нахмурясь, ответил Свирский.
Обед кончился, а с ним и дальнейшие разговоры. Марыня еле могла усидеть на месте, взволнованная тем, что увидит Капитолий, Форум и Колизей при лунном свете. Но через несколько минут они уже ехали к руинам по освещенному электрическими фонарями Корсо.
Была тихая теплая ночь, и ни души близ Форума и Колизея, как, впрочем, нередко и днем. Неподалеку от церкви Санта Мария Либератриче кто-то играл у открытого окна на флейте, и в тишине отчетливо слышалась каждая нота. Передняя часть Форума была в глубокой тени от Капитолийского холма и храма на нем, но задний план заливал яркий зеленоватый свет, и Колизей казался в этом освещении серебряным. Экипаж остановился под аркадами исполинского цирка, и общество направилось к центру арены, обходя громоздящиеся у стен обломки колонн, фризов, груды камня, кирпича и торчащие там и сям низкие цоколи. Тишь и безлюдье невольно побуждали к молчанию. Через своды внутрь проникали снопы лунного света, сонными бликами озаряя арену и стену напротив, высвечивая выемки, трещины, серебря покрывающие ее мох и плющ. Терявшиеся в таинственном мраке остатки стен вдали напоминали черные разверстые пасти. Из низко расположенных куникулов веяло духом запустения. В лабиринте стен, арок, чресполосице света и теней терялось ощущение реальности. Развалины гигантского здания казались чем-то призрачным – вставшим в тишине и лунном сиянии грустно-величавым видением мучительного и кровавого прошлого.