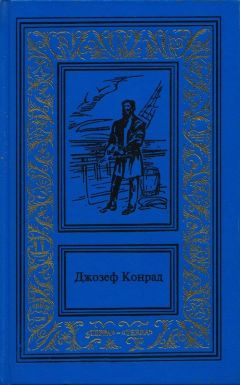А капитан Хэгберд там, наверху, довел себя до того, что начал шумно выражать свою радость.
— Закройте окно! Тише! — глотая слезы крикнула она ему с порога.
Он взбунтовался, испытывая в душе радость оттого, что он навсегда покончил с чем-то неладным. С криками этого старика, в которых, казалось, звучала бессмертная вера в грядущий день, ворвалось великое, исполненное надежд безумие мира, чтобы вселить ужас в ее сердце.
Направо протянулись ряды кольев для рыболовных сетей, напоминающие таинственную систему полузатонувших бамбуковых заграждений, вторгшуюся неведомо зачем в эти владения тропических рыб. Насколько охватывал глаз, нигде не видно было признаков человеческого жилья, и казалось — эти нелепые заграждения были навсегда покинуты каким-нибудь бродячим племенем рыболовов, ушедшим в другие моря.
Налево — из синей воды — вырастала группа бесплодных островков, похожих на развалины каменных стен, башен и блокгаузов, и самое море, раскинувшееся внизу, у моих ног, такое спокойное и неподвижное, казалось твердым. Даже полоса света от заходящего солнца горела ровно, без тех живых отсветов, какие бывают при едва заметной ряби. Повернув голову, чтобы бросить последний взгляд на буксирное судно, только что оставившее нас на якоре за мелководьем, я увидел прямую линию берега, слившегося с неподвижным морем — в какой-то совершенной и тесной близости — в одну ровную поверхность, наполовину коричневую, наполовину синюю, под необозримым куполом неба. Две маленькие группы деревьев, такие же маленькие, как островки на море, виднелись по обе стороны единственного прорыва в этом безупречном слиянии — устья реки Мейнам, только что оставленной нами в первой, подготовительной стадии нашего путешествия на родину. А дальше, в глубине, более темная величественная масса, — роща, окружающая великую Пакнамскую пагоду, — притягивала взор, уставший от бесплодного исследования однообразной дуги горизонта. Там и сям сверкание, словно исходящее от разбросанных кусков серебра, отмечало извилины великой реки, и на ближайшем повороте, как раз на границе мелководья, буксирное судно, уйдя за горизонт, скрылось из моих глаз; исчезли его корпус, труба и мачты, словно бесстрастная земля поглотила его без всякого трепета и без усилия. Я следил глазами за легким облаком дыма из его трубы, поднимавшимся над равниной, то здесь, то там прочерченной извивами реки. Но облако дыма все отдалялось и бледнело, пока я не потерял его наконец за митрообразным холмом великой пагоды. И тогда я остался один со своим кораблем, стоявшим на якоре у берегов Сиамского залива.
На пороге долгого плавания судно неподвижно застыло в окружающей нас необъятной тишине; тени его мачт в лучах заходящего солнца тянулись далеко на восток. Я был один на палубе. На судне — ни единого звука, а вокруг — ни жизни, ни движения; на воде ни одного каноэ, в воздухе ни одной птицы, ни одного облака на небе. В течение этой мертвой паузы в преддверии долгого пути мы, я и мое судно, казалось, измеряли свою приспособленность к длительному и тяжелому испытанию, к труду, какой предназначено было выполнить нам обоим там, где ни один взгляд людской нас не достигал, только небо и море были свидетелями и судьями.
Должно быть, какие-то отсветы в воздухе мешали зрению, потому что только в последнюю минуту перед заходом солнца я разглядел за горным хребтом самого большого, островка в группе островов нечто, нарушившее торжественность полного одиночества. Быстро нахлынула волна темноты, и тотчас, как всегда под тропиками, рой звезд высыпал над затененной землей, а я еще медлил на палубе, легко опустив руку на поручни моего корабля, как на плечо верного друга. Но под взглядами этих бесчисленных небесных светил сладость спокойного общения с судном была нарушена. И вот уже вторглись посторонние звуки — голоса, шаги на носу; стюард пробежал по верхней палубе — суетливый услужливый призрак; на юте настойчиво звенел колокольчик…
В освещенной кают-компании меня ждали два моих помощника. Мы сейчас же уселись за ужин. Передавая блюдо старшему помощнику, я сказал:
— Известно ли вам, что за островами стоит на якоре судно? После захода солнца я видел над горным хребтом его мачты.
Он поднял свое простоватое лицо, густо заросшее бакенбардами, и издал обычное свое восклицание:
— Помилуй бог, сэр! Что вы говорите!
Моего второго помощника, толстощекого молчаливого молодого человека, я считал не по летам серьезным, но тут, взглянув на него, я заметил, как дрогнули его губы. Я сейчас же опустил глаза. Мне не подобало поощрять зубоскальство на борту моего судна. Следует также отметить, что своих помощников я почти не знал. По некоторым причинам, касающимся лично меня, я был назначен принять командование всего две недели назад. И о своей команде я знал немного. Все эти люди работали вместе около полутора лет, и я был единственным незнакомцем на борту корабля. Упоминаю об этом обстоятельстве, так как оно имеет отношение к дальнейшим событиям. Но острее всего я чувствовал свое незнакомство с судном и, откровенно говоря, не был уверен в самом себе. Я был самым молодым человеком на борту, за исключением второго помощника, и впервые занимал ответственный пост. Пригодность остальных я принимал как данное; им следовало только выполнять свои обязанности, но я не был уверен, удастся ли мне осуществить тот идеал своего «я», какой каждый втайне перед собой рисует.
Тем временем старший помощник, вращая своими круглыми глазами и шевеля грозными бакенбардами, развивал длинную теорию о стоящем на якоре судне. Основная его черта — с величайшей серьезностью обсуждать мельчайшие события. Он отличался умом прилежным. По его словам, он «любил давать себе отчет» решительно во всем, что попадалось на его пути, вплоть до злополучного скорпиона, которого он нашел в своей каюте неделю назад. Причины и цель появления этого скорпиона, как он попал на борт и избрал именно его каюту, а не кладовую — темный чулан, соблазнительный для всякого скорпиона, и каким образом ухитрился утонуть в чернильнице на его письменном столе, — занимали его без конца. Значительно легче было дать себе отчет в судне, стоявшем за островами. Когда мы собрались встать из-за стола, он произнес свой приговор. Он не сомневался, что это судно недавно прибыло с родины. По всей вероятности, оно глубоко сидело в воде и могло пересечь мелководье только во время сильного прилива. Поэтому оно завернуло в эту естественную гавань, чтобы выждать здесь несколько дней, а не стоять на открытом рейде.
— Правильно, — неожиданно подтвердил второй помощник слегка хриплым голосом. — Оно сидит в воде на двадцать футов. Это «Сефора» из Ливерпуля, с грузом угля. Сто двадцать три дня из Кардифа.
Мы с удивлением посмотрели на него.
— Мне сказал шкипер с буксирного судна, когда он поднимался на борт за вашими письмами, сэр, — объяснил молодой человек, — Он предполагает послезавтра ввести его в устье реки.
Ошеломив нас таким образом своей осведомленностью, он выскользнул из кают-компании. Старший помощник с грустью заметил, что «не может дать себе отчета в причудах этого малого». Ему хотелось бы знать, почему тот не сообщил нам об этом сразу.
Он было собрался уходить, но я его задержал. Последние два дня судовая команда была перегружена работой, а прошлую ночь люди почти не спали. Мучительно сознавая, что я — чужой человек на судне — совершаю поступок не совсем обычный, я отдал ему распоряжение отправить всех людей спать, не назначая вахты. Я заявил, что сам останусь на палубе до часа ночи и затем передам вахту второму помощнику.
— В четыре он поставит на вахту кока и стюарда, — закончил я, — а потом вызовет вас. Конечно, при малейшем признаке ветра мы поднимем команду и немедленно снимемся с якоря.
Он скрыл свое удивление.
— Хорошо, сэр!
Выйдя из кают-компании, он просунул голову в каюту второго помощника, чтобы сообщить ему о моем неслыханном капризе взять на себя пятичасовую вахту. Я слышал, как тот недоверчиво переспросил: «Что такое? Сам капитан?» Опять послышался тихий шепот, и дверь закрылась. Через минуту я вышел на палубу.
Мое положение чужого человека на борту, лишавшее меня сна, вызвало это необычайное распоряжение; за ночные часы я хотел ближе познакомиться с судном, о котором знал еще меньше, чем о его команде. Пока мы стояли у пристани, я даже не мог разглядеть его хорошенько; подобно всякому судну в порту, оно было завалено ненужными вещами, наводнено береговыми жителями, не имеющими к нему никакого отношения. Теперь оно было вымыто и готово к плаванию, и при свете звезд его главная палуба показалась мне очень красивой, — очень приятной и очень просторной сравнительно с его размерами. Я спустился с юта и стал ходить по шкафуту, рисуя себе предстоящее плавание через Малайский архипелаг по Индийскому океану и далее к Атлантике. Все фазы этого путешествия были мне знакомы — каждая мелочь, любая случайность, с какой сталкиваешься во время бури, — все, за исключением новой для меня ответственности командования. Но я ободрился, рассудив, что судно похоже на другие суда, люди на нем — как люди, а море вряд ли скрывает какой-нибудь сюрприз специально для моего поражения.