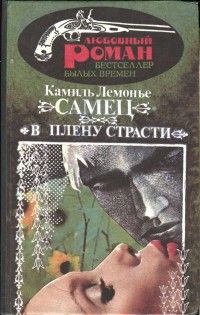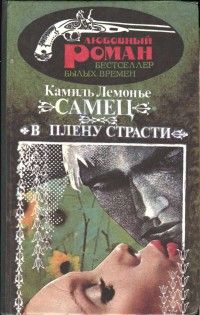В это время Эдокс собирался с мыслями, стараясь подвести какой-то итог всему, что случилось.
«Как, однако, все запуталось… И эта дурочка Даниэль во всем призналась!.. Впрочем, все равно Сара ведет себя просто удивительно. У нее необычайно искусная тактика… Она, как никто, разыграла роль жены, которая ничего не знает и знать не хочет… И если после всего, что было, мы еще сможем жить вместе, то этим я буду обязан ей одной».
Только теперь он сообразил, какому жестокому унижению была подвергнута м-ль Орландер, которую отдали в руки кучера. Его охватило какое-то странное чувство законного, но вместе с тем лицемерного негодования. Сара показалась ему омерзительной. И это называется мать! Какая низость!
Жермен тихонько приотворил дверь. Он посмотрел, не здесь ли баронесса, и, убедившись, что она ушла, с подчеркнутою осторожностью положил на стол пачку газет. Потом он шепнул:
— Вот газеты, которые барышня просила вам передать… И здесь еще вам письмо от барышни.
Эдокс распечатал пакет и нашел письмо.
— Хорошо, — сказал он и отпустил лакея.
«Разумеется, кучер всем уже все рассказал, — подумал он, — теперь весь дом об этом знает. Поэтому Жермен и пришел и говорил со мной таким таинственным тоном. Да, все сложилось так, что бедняжке необходимо уехать».
Он прочел письмо:
«Вы жалкий человек. Вы позволили, чтобы со мной обращались как с самой последней девкой. Вы должны презирать сейчас себя самого за эту трусость не меньше, чем я ненавижу вас и буду теперь ненавидеть всю жизнь. Все равно, я отомстила и ей и вам: она все знает».
«Да, конечно, я сделал глупость, — подумал Эдокс, прочтя письмо. — Эта девчонка оказалась гораздо решительнее, чем я предполагал. Она меня обвела вокруг пальца, а в моем возрасте это непростительно!»
Два месяца спустя Даниэль выдали замуж. Маленький Мозенгейм оказался счастливцем, сорвавшим эту пышную розу, первое благоухание которой досталось другому. Эдокс, который еще задолго до этого задумал совершить путешествие на восток, хотел было уехать возможно скорее, чтобы не присутствовать на свадьбе. Но жена не дала ему увильнуть от обязанностей, которые на него накладывало его положение отчима невесты. Она потребовала, чтобы он заменил в этот день Даниэль отца и сам передал ее в руки мужа.
Сколько убийственной иронии было в этой комедии брака! Ни у кого не возникало сомнений в девственности невесты, и правду знали только сама Даниэль, ее мать и ее злосчастный любовник, которому приходилось теперь со всем лицемерием играть роль отца. Это было последней местью Сары. Она приложила все старания, чтобы расстроить планы Эдокса, и придумала столь веские возражения против его поездки, что он был вынужден задержаться и принять участие в нелепой и унизительной для него церемонии. Все это время баронесса делала поистине героические усилия, чтобы ничем не показать, что знает о преступной связи Эдокса с ее дочерью. После роковой ночи, когда все открылось, ночи, вместе с которой пришли тревога и ярость, она поняла, что вовсе не расчет, а сама сила ее неистовой и обманутой страсти делают ее способной на эти героические усилия, на эту двойную жизнь и что каким-то чудом ей удается верить мужу так же, как и прежде.
Едва только Даниэль уехала, как в доме все опять пошло своим чередом. Казалось даже, что она никогда в нем не появлялась. Ощущение это было еще сильнее оттого, что муж и жена обещали друг другу больше не вспоминать о той, которая разрушила все, что создавали они оба; имя Даниэль было упомянуто единственный раз только тогда, когда составляли брачный контракт. Чтобы теперь уже навсегда избавиться от дочери, баронесса выделила ей значительную часть своего состояния. Да и сами Мозенгеймы оказались достаточно требовательными. После этого м-ль Орландер вернулась домой только на один день. Эдокс сам отвез ее в церковь; руки их, которые совсем еще недавно сплетались в греховных объятиях, соединились теперь в последний раз перед свадебной церемонией, где все было сплошным обманом. Оба держались совершенно спокойно. Ни словом, ни движением они не выдали своей постыдной тайны. Эдоксу, правда, пришлось подавить в себе легкую дрожь, когда он почувствовал прикосновение женского тела, которое было ему так знакомо. Но Даниэль не испытала даже и этого. Лицо ее сияло ослепительной красотой и такой невинностью, что ее бывший любовник пришел в ужас.
«Это же настоящее чудовище, — подумал он. — Она как будто забыла, что показала мне первому дорогу к счастью — к тому самому счастью, которое сейчас достается этому олуху Мозенгейму».
Супруги зажили по-старому. Эдоксу пришлось примириться с унизительною повинностью выносить молчание жены, ежечасно напоминавшее ему о его грехе, и своей слепой покорностью добиваться прощения, получить которое, как ему давали понять, было отнюдь не легко. Для него это был поворот судьбы, ограничившей его независимость и безвозвратно отдавшей его во власть женщины, которую он обманул и которая теперь с таким тонким искусством извлекала выгоду из своего несчастья. Эдокс понял, что эта женщина оказалась сильнее его, что она его победила, и стал не на шутку побаиваться, что она теперь окончательно подчинит его себе. В жизни этого нераскаявшегося грешника, этого покорителя женских сердец, похождения которого занимали любителей скандальной хроники, наступила разительная перемена. Он, ставивший превыше всего свою свободу, теперь, дожив до сорока пяти лет, почувствовал, что его поработили.
Вышло так, что связывавшая их тайна стала залогом прочности того самого очага, который Эдокс едва не разрушил. Взаимное притворство сделалось для них своего рода цепью, и, прикованные этой цепью друг к другу, они стали ближе, чем тогда, когда жили в атмосфере доверия и дружбы. Эдокс все время боялся, что в минуту гнева Сара бросит ему в лицо упрек в его страшном проступке, от которого она все время страдала. Одной минуты было бы достаточно, чтобы разрушить всю эту жизнь, которую они столь старательно воздвигали на зыбкой лжи. Но эта минута так и не наступила.
Сара нашла в себе достаточно сил, чтобы гордо затаить в сердце свое безутешное горе. Эдокс точно так же тщательно следил за собой: боясь, чтобы мир и согласие, воцарившиеся в его отношениях с женой, не были нарушены вторжением в их жизнь какой-либо новой измены, он стал предаваться втихомолку самому низкопробному разврату. Именно в это время он сделался завсегдатаем г-жи де Руа, широкоизвестной владелицы корсетной мастерской, которая сводила людей почтенных с молоденькими, едва созревшими девушками; в ее заведении полиция обнаружила однажды немало высших чинов, и в числе их одного из виднейших министров тогдашнего правительства и самого Эдокса.
Та кипучая деятельность, которой было отмечено начало его политической карьеры, точно так же исчерпала себя. Меняя убеждения, подобно тому как он менял женщин, он очень скоро пресытился своими успехами в парламенте, наскучившем ему, как несколько лет назад ему наскучило выступать в суде. Проект тарифов на пошлины, представленный им в парламент на следующий день после того, как он в первый раз изменил жене с м-ль Орландер, был отклонен большинством голосов, и от этого поражения он уже не оправился. Министерство рассчитывало, что именно Эдокс поможет добиться всеобщего признания осуществляемой им политики, а он вместо этого самым позорным образом провалился. Оппозиция одержала верх. Это поражение депутата едва не повело к падению всего правительства, которое было спасено только исключительно ловким маневром Сикста.
Жан-Оноре очень болезненно пережил этот удар. Он мечтал, что сын его добьется почестей и славы, а теперь мечты его рушились: политическая карьера Эдокса самым нелепым образом оборвалась. Это было большим огорчением и для Жана-Элуа. Он надеялся, что Эдокс получит министерский портфель и тогда, может быть, удастся спасти дело колонизации, которому сейчас грозила почти неминуемая гибель. И действительно, Сикст, обладавший удивительным чутьем, очень скоро захотел избавиться от предприятия, участие в котором могло дискредитировать правительство. Его уже упрекали за кредиты, которые он отпустил, за дорого стоившую постройку школы, в результате которой обогатился только Рабаттю и его приспешники, за создание штата учителей, так и не сыскавших себе учеников. Он решительно заявил, что поддерживать колонизацию больше не станет.
Престиж семьи Рассанфоссов внезапно пошатнулся. Теперь, когда Эдокс лишился моральной поддержки Сикста, надеяться, что его выберут снова, особенно не приходилось. Распространились слухи, что, в благодарность за оказанные правительству услуги, славному представителю рода Рассанфоссов, когда он лишится своего депутатского кресла, будет предоставлено место в провинции. Это было окончательное крушение всех надежд Жана-Элуа. Рука судьбы чертила на стене огненные слова «Мене, текел, фарес».[16] Это был приговор всем их миллионам, всей их безумной жизни. Катастрофа была неизбежна. Семья расползалась по всем швам.