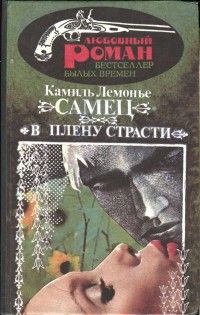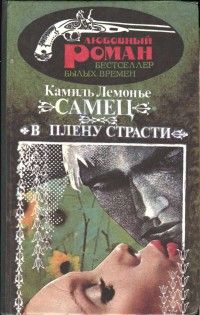Ее самые крепкие устои, на которые она возлагала свои надежды, стремясь к все большему возвышению, прогнили насквозь. И постепенно ширилась яма — страшная бездна, откуда вышел их род и куда он теперь низвергался снова.
И только Ренье, этот злой гений Рассанфоссов, радовался падению Эдокса. Он считал его самой заурядной посредственностью и предсказывал, что из него ничего не выйдет. В действительности так оно и случилось. Хвастовству попугая пришел конец. Теперь наконец перестанут поклоняться его помету, перестанут толпиться перед его нашестом.
— Свершилось! — сказал он Рети, с которым они встретились в театре. — У Рассанфоссов отрезали голову. А брюха они лишились, когда этот толстый боров Антонен вышел из строя. Скоро у них ничего не останется, кроме моего горба. Но его-то уж ничто не сломит. Я ведь шут, и когда все пропадет пропадом, я буду сидеть на развалинах и смеяться. Рассанфоссы больны неизлечимой болезнью! Они гибнут один за другим. Они находят себе могилу в «Горемычной». Пойми только, что мы все явились на свет с переполненным брюхом. И теперь нам очищают желудок. Может быть, это и есть настоящая справедливость!
Рети, как истый философ, относился не без интереса к этому развратному моралисту, к этому последнему отпрыску гибнущей семьи, одержимому одним из видов безумия — страстью к кровопролитиям и катастрофам.
— Да, я знаю, — сказал он задумчиво, — вы тот, кого приставили к ужасному делу уничтожения… Вы тот древесный червь, который подтачивает корабль Рассанфоссов… Да, — добавил он, покачав головой, — это какая-то слепая сила, какой-то злой рок… Против него бессильно все… Недалеко уже то время, когда от Рассанфоссов не останется и воспоминания, забудется даже их имя… Тогда не понадобится и дуновения ветра, дерево упадет само… Ах, дорогой мой карапуз, каждый род, точно так же как и каждое племя, живет в мире всего какой-нибудь час. Они возникают и развиваются во имя некоей таинственной цели. Потом, когда они выполнят свое назначение, тот же самый неисповедимый закон, который вызвал их из небытия, погружает их туда снова. Рождение, рост, зрелость, исчезновение — вот четыре ступени, четыре поры жизни! И каждый раз это скопище человеческих жизней, которые появляются на свет, чтобы потом исчезнуть, зиждется на могучих пластах удобрений, оставшихся после плебса и превратившихся в плодороднейший перегной… Народ! Великий перегонный куб! Оттуда выходят все, поднимаются до господства над людьми, становятся эвпатридами,[17] а потом все еще раз начинается сначала. Может быть, когда-нибудь из некоего безвестного дичка, потерянного на забытой людьми земле, вырастет та сила, которая восстановит ваш род… Да, кто знает? Это чудо, которое возобновляется вновь и вновь; возрождаться мы начинаем только тогда, когда возвращаемся в лоно природы… Только бы крохотное зернышко дало росток, и дерево снова зазеленеет. Да и что в этом удивительного? Разве народ не есть основа всего человечества, его великий источник?
— Так неужели же эта жизнь никогда не будет иметь конца! — раздраженно воскликнул Ренье. — К чему жить, если все на свете один обман и человек — только игрушка в руках окружающей нас таинственной силы? Нет, нет, лучше небытие, чем прозябание на этой монаде, которая бесцельно несется в пространстве, на этом нелепейшем кубаре, который когда-то хлестнули кнутом и который теперь миллионы лет кружится вокруг себя самого, не зная, в силу какой загадочной случайности он пустился в пляс.
Ренье расхохотался.
— Каково! Недурно ведь сказано! Если бы я не был сыном своего отца, я, может быть, стал бы самым обыкновенным школьным учителем и во время перемен писал бы стихи или речи для этого пустомели Эдокса.
Своими кутежами горбун действительно опустошал кассу Жана-Элуа. Сонмы кредиторов ежедневно осаждали дом. Меньше чем за год Ренье выдал ростовщикам векселей более чем на полтораста тысяч. Жан-Элуа подумывал уже о том, чтобы учредить над ним опеку, и боялся только, что этим он запятнает свое доброе имя.
Ходили какие-то странные слухи: рассказывали, что сын его нанял себе маленький особняк возле городского парка и устроил в нем гарем, поселив там проституток, которые исполняли танец живота в костюме баядерок. Все это походило на причуды какого-нибудь восточного князя. Прислуживали ему негры в пурпуровых туниках. Сам он появлялся там в роскошных одеяниях, сшитых из дорогих тканей и, наподобие римских одежд, оставлявших обнаженными руки и ноги.
На одно из своих празднеств он пригласил Депюжоля, и артист пришел в восторг от всего этого великолепия. Он рассказал об этом Сириль, и ее извращенное воображение сразу же воспламенилось. Она стала мечтать о том, чтобы самой участвовать в этих оргиях, и добилась того, что Ренье пригласил ее к себе в дом. Таким образом ей удалось присутствовать на знаменитом ужине с голыми женщинами, который Ренье, забавлявшийся извращенными вкусами своей кузины, дал в ее честь. На этом ужине, где дочь Жана-Оноре была единственной одетой женщиной на этом параде голых тел, она сказала:
— Я бы могла отлично раздеться вместе с другими, если бы только мой кузен меня об этом попросил.
Ее связь с Депюжолем ни для кого уже не составляла тайны. На глазах у всех она провела с ним целое лето в Спа, в то время как муж ее путешествовал по Норвегии, вместе с ним выступала на благотворительных концертах. Семья была возмущена. Родители, люди прежних строгих нравов, были до такой степени потрясены, что не захотели ее видеть. Когда она однажды поехала с визитом к Кадранам, ее не приняли. Из всей семьи к ней не изменила отношения только ее сестра Лоранс, добрая, всепрощающая Лоранс, которая всеми силами старалась уговорить эту легкомысленную женщину вернуться к мужу.
«Ну вот, с моим братом, Жаном-Оноре, человеком таких строгих правил, случилось то же самое, что со мною, — думал Жан-Элуа. — Его дочь так же сбилась с пути, как и наша. Эдокс в конце концов ничуть не лучше Ренье и Арнольда. Но какая страшная судьба постигает всех Рассанфоссов! Всю семью, всех наших детей до одного просквозило этим ветром безумия и разврата. Ах! Что сказала бы маменька, если бы она только узнала, до какой мерзости докатились потомки Жана-Кретьена!»
Но счастье любовников, ездивших с одного курорта на другой и по возвращении поселившихся вместе в маленьком домике в предместье, оказалось непрочным и уступило место разладу. Потеряв ореол таинственности, грех утратил в глазах Сириль всю свою прелесть. Уже во время пребывания их в Спа Депюжоль заметил, что она начала с кем-то флиртовать: ей хотелось пережить снова все очарование адюльтера, который теперь уже, потеряв свою былую сладость, превратился в привычку. Однажды вечером, когда она пришла со свидания, Депюжоль избил ее, подставил ей под глазами синяки. Она клялась, что завтра же его бросит, но после ночи, проведенной в поцелуях и неистовых ласках, она почувствовала, что и само наказание имеет для нее притягательную силу.
— Ты хоть колотишь меня — значит, ты меня любишь, — говорила она ему, — не то что этот остолоп Леон. Чуть что, так он в слезы.
Мягкий характер ее мужа, постоянно витавшего в облаках и не имевшего никакого влияния на Сириль, раздражал ее, злил. Провиньян казался ей бесцветным и пресным. Стоило ей только вернуться из объятий Депюжоля в домашнюю обстановку, как она начинала испытывать чувство пустоты. Не было даже того ощущения контраста, который сам по себе мог создать хотя бы некоторую иллюзию любви. Первое время она обманывала мужа, со всею страстью упиваясь тем наслаждением, которое натуры порочные находят всегда в обмане, придающем прелесть и остроту лакомому блюду измены. Тогда, возвращаясь к мужу вся распаленная восторгами любви, она радовалась, что снова отдает ему свое тело и что он делит его с другим, ничего об этом не зная. А каждая новая встреча с любовником приносила ей еще большую радость от сознания, что обмануты оба. Но постепенно от всей этой сладостной дрожи не осталось даже следа, самый грех потерял для нее свое обаяние. Убедившись, что теперь она может лгать сколько хочет, она стала страдать от тягостной скуки. И только Депюжоль со своей неприкрытой грубостью сангвиника в какой-то мере скрашивал однообразие их романа, который без этой приправы, вероятно, надоел бы ей очень скоро.
Нервная и впечатлительная, Сириль мгновенно переходила от одних чувств к другим — от смеха к слезам, и настроение ее то и дело менялось.
— Это вроде пляски святого Витта, — говорил Рети.
И действительно, она неожиданно рассорилась со своим баритоном и влюбилась в юного атташе посольства, которого через два месяца сменил уланский офицер.
С этой поры ее надтреснутое сердце стало походить на постоялый двор, где появлялись все новые страсти и увлечения, завязывались все новые флирты. Каждый раз ей казалось, что она любит впервые, она начинала млеть от восторга, теряла голову, упиваясь не столько самим чувством, сколько той комедией, в которую она его обращала. Ее неустойчивая нервная система сотрясалась до основания при каждой вспышке страсти, которой она себя тешила. Она постоянно пребывала в каком-то лихорадочном трепете, гонялась за новыми, еще неизведанными ощущениями и каждый раз готова была поверить в то, что это и есть настоящая любовь. А потом она с такою же легкостью верила и в то, что ее новая любовь себя исчерпала, и чувствовала себя по-прежнему несчастной и одинокой. Переходы эти сопровождались целыми потоками слез, нервными припадками, угрозами покончить с собой и душераздирающими сценами, когда она хваталась то за веревку, то за нож, причем делала все это напоказ, открыто компрометируя себя в глазах окружающих, и все считали ее самой обыкновенной мещанкой, которая окунулась в разврат и стала вести себя как публичная девка.