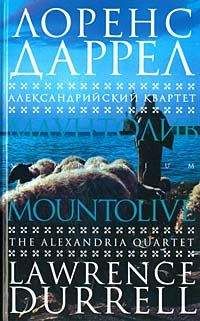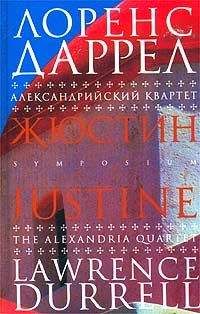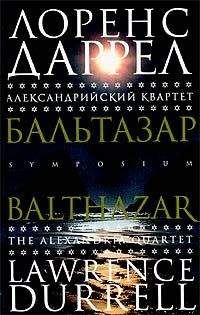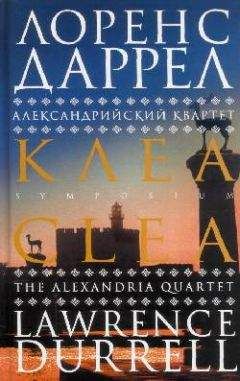На лимузине с посольскими флажками он мчал по хрусткой пустыне, радуясь тихому посвисту овеваемого зимним ветром мотора и почти что конскому ржанию пустынных мелких бесов, запутавшихся скопом в ветровом стекле. Давно уже не выезжал он вот так, один, в пустыню — приятное воспоминание о путешествиях иных, счастливых дней. Рассекая надвое податливую стену тихого белого воздуха, со стрелкой спидометра за цифрой шестьдесят, он напевал себе под нос — надо же, какая гадость — мотивчик припева:
Jamais de la vie,
Jamais dans la nuit,
Quand ton cœur se deeemange de chagrin. [99]
Он словно поймал себя за руку и удивился — сколько, интересно, времени он так ехал и пел? Целую вечность. Не то чтобы счастье, но и впрямь ощущение горы, упавшей с плеч: затекшая душа еще зудела, но — Господи! — какое облегчение. Даже и дурацкая эта песенка оказалась в помощь, часть утраченного образа Александрии, которую он находил когда-то очаровательной и которая теперь понемногу возвращалась. Удастся ли вернуть ее? Возможно ли ее вернуть?
Ближе к вечеру он добрался до места, где край пустыни постепенно перетекал в хаос пригородных трущоб, и плавной центростремительной дугой поехал не торопясь объездной дорогой к центру. Небо все было в тучах. Над Александрией гремела гроза. К востоку, над льдисто-зеленой глыбой озера, бушевал ливень — блесткие длинные иглы дырявили шкуру воды, и даже сквозь ненавязчивое бормотание мотора был ощутимо слышен отдаленный шорох дождя. Он окинул взглядом жемчужно-белый Город под черным ватным одеялом, по стеблям минаретов мазнули темно-алым косые полосы заката: как белье макнули в кровь. Секли, ерошили морскую гладь короткие шквалы. А выше кочевали мощные стада сизо-черных, подбитых кровью туч, отбрасывая странный отсвет на улицы и площади белого Града. Дождь был в Александрии редкий и недолгий зимний гость. Чуть погодя, очень скоро, подкрадется сторонкою ровный ветер с моря и в несколько минут расчистит небо, скатает кучевые облака, как ковер. Стеклистый холодок зимнего здешнего неба вернет себе свои права и свет свой и вычистит, отполирует Город заново до кварцевого блеска, как редкий какой-нибудь, на фоне пустыни, артефакт. Нетерпение ушло. Закат понемногу затягивался сумеречной дымкой. Он ехал мимо внешней гавани, бесконечная лента уродливых лачуг, пакгаузы, колеса жирно чавкали о нагретый днем гудрон, чуть сбрызнутый недолгим дождичком. Надо бы убавить газу…
Он медленно въехал в полумрак грозы, дивясь на цветовую гамму света и на горизонт, натянутый как лук. Закат пригоршнями рассыпал рубины по мачтам и рубкам боевых кораблей на рейде (которые скорчились и выставили орудийные дула, будто рогатые жабы). Город снова стал древним; сквозь шорох дождя — по дороге к летней резиденции он попал под дождь — он явственно ощутил его эллинистическую меланхолию, странный, нездешний отсвет молний воссоздал его, раскрасил, как картинку в книжке, — станиоль растрескавшихся тротуаров, улиточьи домики, тертый рог, слюда; лачуги из самана, крашенные в цвет бычьей крови; бродят любовники по площади Мохаммеда Али, заблудившись в дожде с непривычки, несвязно, как ненастроенные инструменты; перестук фиолетовых трамваев у моря, вдоль кружевного плетения пальмовых рощ. Запущенный Город, древний как мир, чьи улицы сцементированы пылью, принесенной ветром из пустыни, сбрызнутой влагой дождя. Он все это чувствовал заново, дав Городу волю развернуться, лечь в его душе огромной морской звездой — стон лайнера, уходящего по кромке заката в море, или поезд, текущий в глубь материка жидкой россыпью алмазов, бормочут неразборчиво колеса в каменистых гулких балках; припорошенные пылью храмы, давно забытые, наполовину занесенные песком…
Маунтолив теперь все видел через призму странной, несвойственной ему ранее усталости быть, в которой узнал наконец знак отличия, вроде нашивки за выслугу лет; жизнь награждает ею человека зрелого вполне — стигматы жизненного опыта, морщины возраста. В гавань плеснуло ветром. Шеренги мокрого такелажа рванулись куда-то, не сходя с привычных мест, забились дрожью, как листва огромного неведомого древа. Слезы побежали вниз по лобовому стеклу, бесшумно и неутомимо заходили дворники… Короткая пробежка в странной, напряженно сжатой тьме, с театральной подсветкой молний, и затем — снова ветер, как положено, с севера, который взбил, взмесил на море обычные белые плюмажи гребней, а после стал ломиться в гигантские ворота облачных замков до тех пор, пока на лица мужчин и женщин не лег отблеск бездонного зимнего неба. Времени оставалось до черта.
Он доехал до летней резиденции, чтобы лично убедиться в том, что персонал о его прибытии извещен; он намеревался остаться здесь на ночь, а с утра отправиться обратно. Он открыл парадное своим ключом, нажав одновременно кнопку звонка, и постоял немного, слушая, как торопливо шаркает по коридорам Али. Когда стариковский зыбкий шаг был совсем уже близко, налетел с ревом северный ветер, задрожали в оконных рамах стекла, и дождь вдруг сразу перестал, как выключили его.
До рандеву оставался час или около того: приятный промежуток времени, в самый раз принять ванну и переодеться. К собственному своему удивлению, он чувствовал себя абсолютно спокойным — ни тебе терзаний, ни сомнений, ни прежней взвинченности с чувством облегчения пополам. Он безоглядно отдался на волю случая.
Он съел сэндвич и выпил две стопки неразбавленного виски, прежде чем выйти и дать лимузину волю скатиться не спеша по Гранд Корниш к «Auberge Bleue», ближе к окраине Города, где уже проглядывали сквозь редкие стволы пальм заблудившиеся белые дюны. Небо расчистилось, белые барашки волн бежали по морю к суше и с грохотом разбивались о металлические пирсы Чэтби, оседая мелкой пылью. У самой грани горизонта тускло проблескивали одинокие молнии — как артиллерийская дуэль двух крейсеров, подумалось ему.
Он съехал осторожно с шоссе на совершенно пустую парковку «Auberge», выключив на ходу подфарники. Посидел с минуту, привыкая к синей полумгле. В «Auberge» было пусто — рановато еще, те, кто намеревается нынче ужинать и танцевать здесь, только еще собираются. А потом он увидел. Прямо у дороги, по другую сторону парка, белая полоска песка и несколько гнутых пальм. Там и стояла гхарри. Горели старомодные фонарики, перемигиваясь, как светлячки, под легким бризом с моря. На козлах дремала темная фигура в феске.
Он пошел по усыпанной гравием площадке легким, радостным шагом, слушая, как скрипят под ногами камушки, и, подойдя к гхарри, негромко позвал:
«Лейла!»
Темный силуэт на козлах на фоне мерцающего смутно неба обернулся, а изнутри, из экипажа, он услышал голос — голос Лейлы, — и фраза была что-то вроде:
«Бог мой! Дэвид, ну вот мы и встретились. Я специально приехала сюда, чтобы сказать тебе…»
Он удивленно подался вперед и напряг, как мог, глаза, но разглядел лишь смутный силуэт в дальнем углу, не больше.
«Забирайся, — сказала она, словно подтолкнув его в спину. — Забирайся, поговорим, ну, давай».
И вот здесь-то чувство ирреальности происходящего настигло наконец Маунтолива — Бог знает почему. Но ощущение было как во сне, когда идешь, не касаясь земли ногами, или взлетишь вдруг и поднимаешься сквозь воздух, как пробка сквозь толщу воды. Все его пять, или сколько их там, чувств потянулись вперед, как антенны, к темной фигуре в углу, пытаясь собрать воедино, как-то уразуметь смысл запинающихся этих фраз: что-то было не так, какой-то был в словах ее странный привкус и мешал — как иностранный акцент в знакомых голосах; весь его аппарат восприятия словно бы накренился, хлебнул воды — ощущение не из приятных.
Между тем все обстояло проще некуда: он не вполне узнал ее голос. Или, если иначе, Лейлу он, пожалуй, узнать бы смог, но вот ушам своим поверил не слишком. Он слышал голос, но не тот хрустально чистый тон, что остался жить в его воображении и населял, как бриллиант парчовую шкатулку, памятное — сквозь дымку — тело Лейлы. Что-то едва ли не вульгарное угадывалось сквозь сбивчивые, зыбкие фразы, и, как будто щербинка на крае бокала, эта чужая нотка попадалась на ощупь — назойливо и неотвязно. Он сделал скидку на возбуждение и Бог знает еще на какие чувства. Но… фразы начинались и гасли, чтобы снова звучать с середины, фразы натыкались одна на другую и мешкали, пытаясь неловко соединить две мысли внахлест. Он нахмурился в темноте, пытаясь понять — откуда взялась эта странная путаница? Голос не был голосом Лейлы — или все-таки?.. Из темноты пришла ладонь и легла ему на руку, и он с готовностью воспользовался шансом разглядеть ее так и эдак в желтоватой мелкой лужице света от масляной лампы в медном держателе на боковине кеба. Неухоженная пухлая ладошка, ногти — ни маникюра, ни лака.
«Лейла — это и в самом деле ты?» — спросил он почти невольно, все еще во власти чувства нереальности, расплывчатости всего и вся; как если бы два сна переплелись, наложились один на другой.