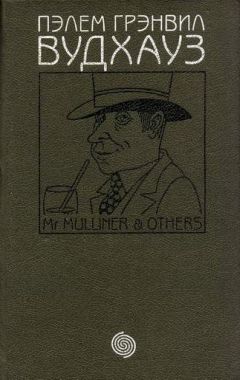— Спасибо, мама.
— Только не думай, что я — за. Я против. Я его не люблю.
— Ничего, мама. Тебе и незачем. Это я за него выйду.
Чиппендейл проявлял несомненные признаки беспокойства. Он ерзал. Он облизывал губы. Он стоял то на одной, то на другой ноге. Шерлок Холмс предположил бы, что мысли его в «Гусе и гусыне»; и, как всегда, оказался бы прав.
Однако жажда не победила учтивости.
— Я вам еще нужен, мадам? — спросил он.
— Вроде бы нет. А что, вы спешите?
— В определенном смысле, мадам. Мистер Уэст послал меня выпить за его здоровье.
— Ну идите.
— Спасибо, мадам.
— Привет собутыльникам.
— Спасибо вам большое.
Когда он удалился, брат и сестра помолчали, потом брат сказал:
— Странный какой-то…
— Понимаешь, — объяснила сестра, — он не настоящий. Все думают, что он — дворецкий, а он — судебный исполнитель. Криппи никак не мог заплатить за ремонт, они и прислали. Ничего, сегодня заплатит, и Чиппендейл уйдет.
— Да? — без особого интереса откликнулся брат. — Он мне подал хорошую мысль.
— Молодец!
— Насчет «Гуся и гусыни». Как ты думаешь, есть там шампанское?
— Навряд ли.
— Тогда обойдусь виски, — сказал брат, предположивший, что уж тут-то можно излить душу сестре. — Никак не могу объясниться с Верой. Останемся вдвоем, порю всякую чушь. Так нельзя. Значит, надо напиться. Во всяком случае, попробую. — И он выбежал из комнаты почти с той же скоростью, что и Чиппендейл.
Берни смотрела ему вслед, и сэр Криспин, вошедший в эту минуту, заволновался за нее, хотя до сей поры просто летал от счастья.
— Что с тобой, дорогая? — вскричал он. — Ты похожа на какую-то рыбу. Очень тебе идет — но что с тобой?
— Я расстроилась.
— Ничего, мой ангел, ничего. Что поделаешь, реакция! В конце концов, столкнуть констебля в воду… Знаешь что, ты выпей.
Берни задрожала.
— Не говори мне про питье! Гомер пошел в «Гуся», чтобы напиться.
— Из-за этой мыши?
— Из-за этой Веры. Не может признаться ей в любви. Сэр Криспин успокоился.
— Ну, это не страшно, — сказал он. — Выпьет и признается.
— Что ты говоришь! Она — Далила!
— Почему? Такая милая барышня…
— Далила и вампир! Я сразу поняла. Хочет его поймать, нарочно приехала.
— Ну что ты, — возразил сэр Криспин. — Конечно, Гомер — прекрасный человек… Да, почему Гомер? Честное слово, родители с ума посходили! Чиппендейл говорит, есть такой Чингачгук. Ах, что там, возьми меня — Криспин Ланселот Гавейн![74] Мама любила всяких рыцарей. Да, так о чем это? А, вот! Гомер — прекрасный человек, мышь у него, то-се, но красотой не блещет, ты уж прости. Она ему откажет.
— Нет, не откажет. Он получает двести тысяч в год.
— Ты думаешь? Тогда пойди в «Гуся», поговори с ним.
— О, Криппи, что бы я без тебя делала!
— Пойти с тобой?
— Нет-нет, спасибо. Лучше я пойду одна.
Когда сестра беседует с братом, она может не стесняться. Хочет назвать его кретином — пожалуйста, называй. Посетует, что не задушила подушкой в ранние годы — можно и это. Берни сделала и то и другое, как только вошла; Гомер отвечал ей, что ничего не понимает.
Тридцать с лишним лет назад Берни ударила брата любимой куклой, но сейчас куклы не было. Она взглянула на поднос и все же ограничилась словами.
— Понимаешь, как миленький. Я говорю про эту змеюку, эту хапугу…
Человек, пьющий виски и выпивший немало, с трудом сохраняет достоинство, но Гомеру это удалось.
— Я попросил бы, — заметил он, — не говорить в таком тоне о мисс Апшоу. Это — редкостная душа. Ей чуждо все низменное. Почитай ее книги, каждая строчка дышит поэзией. «Дни нарцисса», «Утром, ровно в семь»…
Берни, не скупясь на выражения, объяснила, что читать их не будет.
— И зря, — выговорил Гомер. — Такие оду-хо-тво-рен-ны-е. Да. У-тон-чен-ны-е. Эльфирные. Нет, эфийные. В общем, как эльфы.
— Ладно, тебе виднее, — сказала сестра. — Ну и что? Все нью-йоркские мымры пишут, как ангелы. Господи! — вскричала она. — Почему мы с тобой такие кретины? Не иначе фамильное проклятие. Как сейчас помню, ты меня уговариваешь не выходить за Клейберна. Мне и в голову не пришло, что такой красавец не может любить девицу, у которой одно украшение — деньги! А теперь уговариваю я, вот тебе Клейберн в юбке. Удавы и кролики, удавы и кролики…
— Ч-что?
— Видимо, такой закон, каждый кролик находит своего удава. Мы с тобой — кролики, Клейберн — удав. Признаю, у него было все, даже нравственный кодекс уличного кота. Эта Вера тоже не промах. Выйти за тебя она выйдет, не беспокойся — а потом? Свадебного торта не переварит, уже заведет роман.
Гомер встал; достоинству его на мгновенье помешано то, что он икнул. В баре грянула песня, и первую фразу ему пришлось повторить.
— Я отказываюсь это слушать, — сурово сказал он.
— Дело твое, — признала Берни.
— И пойду домой.
— К удаву? Что ж, иди. А я пойду в бар. Хорошо поют. Гомер двинулся в путь. После всего, что он выслушал, уши у него горели, глаза — боевито сверкали за стеклами очков. «Нет, что за чушь! — думал он. — Конечно, сестры ревнуют, но подозревать это эфирное создание… Чудовищно! Взглянув в его, то есть — в ее глаза, даже Берни могла бы увидеть снежно-белую душу. Романы! Нет, что же это! Какая гадость!»
Пылая любовью, он хотел поскорее увидеть Веру, и желание его сбылось. Она стояла у ворот, а точнее — висела на шее молодого человека, который недавно приехал. В тот самый миг, когда Гомер застыл на месте, они, судя по всему, поцеловались; еще недавно Голливуд вырезал бы эти кадры.
Гомер отпрянул назад. Ему показалось, что его окатили очень холодной водой; и любовь его, столь нерушимая до той поры, фукнула и угасла. Чувствовал он себя так, словно у него мгновенно упала температура. Только что в нем бушевала лава — и вот он здоров, спокоен, собран. Гомер, поэт и влюбленный, исчез, как не бывало, сменившись мистером Пайлом, крупнейшим юристом из конторы «Пайл, Уизби и Холлистер». Одно огорчало его — сестра Бернадетта скажет теперь: «Что я говорила?»
Он не знал, долго ли испытывал это блаженное чувство, но пробудил его шум машины. Он выскочил на дорогу. За рулем сидел Уиллоуби.
— Эй, Скроп! — сказал он. — Минутку! Едете в Лондон?
— Да.
— Не подвезете?
— Пожалуйста. А что такое?
Конечно, Гомер мог сказать, что получил телеграмму из Америки, его вызывают в город; он мог это сказать — но не сказал.
— Хочу убежать от одной бабы, — признался он и попал в точку. Упорный холостяк его понял.
— Хоп! — сказал Уиллоуби, и Гомер прыгнул на сиденье.
— Ну, рассказывайте, — продолжал он, и Гомер все рассказал.
— На вашем месте, — заключил он, выслушав рассказ, — я улетел бы в Нью-Йорк. Бог с ним, с багажом. Потом вышлю.
И Гомер признал, что эта самая мысль осенила его самого.
Джерри вышагивал взад-вперед перед воротами. Он еще не успокоился, но был счастлив, что сумел вовремя поставить на место прекрасную Веру. Оторвать ее от себя было нелегко; объяснить, что чувства его изменились, — еще труднее. Но он справился. Истинная любовь придала ему красноречия, и он сумел выразить мысль, утаив из деликатности, что лучше утонет в болоте, чем женится на эссеистке.
Теперь он мог без помехи думать о Джейн и думал так рьяно, что только сигнал автомобиля пробудил его. Подскочив, как холмы, он понял, что королева его сердца вернулась из Лондона. Она сияла, и он решил, что перед ней все девушки на свете — грошовые миниатюры; после чего заглянул в машину, произнося при этом:
— Вот и ты!
— Да, — отвечала Джейн.
— Вернулась.
— Вот именно.
— Устала?
— Что ты!
— Юриста видела?
— Да. Его фамилия — Стогенбьюлер.
— Жаль человека. Они помолчали.
— Так что ты хотел спросить? — напомнила Джейн.
— Когда?
— Перед моим отъездом. Вошел Чиппендейл, и ты замолчал. В чем дело?
— Ты выйдешь за меня замуж?
— Ах, вон что! Зачем ты спрашиваешь?
— Ну, все-таки… Так выйдешь?
— Конечно. А ты не хочешь меня поцеловать?
— Как раз собирался.
— Только вытри помаду.
— А что, есть?
— Еще как!
— Понимаешь…
— Пока нет.
— … я был обручен с одной девицей. Она меня бросила, а сейчас решила переиграть. Кинулась, то-се… В общем, я сказал, что женюсь на тебе.
— Ты же еще не знал!
— Как-то предчувствовал.
— Больше никто не кинется?
— Нет, что ты!
— Это хорошо.
Через некоторое время Джейн проговорила: «Джерри», а Джерри не совсем внятно откликнулся: «Да?»
— Надо тебе сказать…
— Не надо, я знаю.
— Про деньги?
— Да. Дядя Уилл приехал.