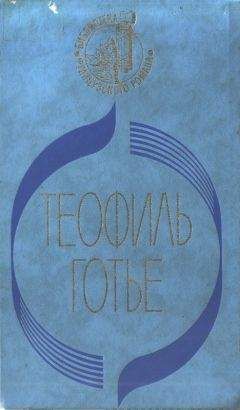Наконец, не в силах более сдерживаться, она каким-то судорожным движением внезапно вскочила на ноги и принялась чуть не бегом расхаживать по комнате; затем остановилась перед зеркалом, поправила несколько локонов, выбившихся из прически. Пока она всем этим занималась, я сидела с самым жалким видом и не знала, как себя повести.
Она остановилась напротив меня, как будто что-то обдумывая. У нее мелькнула мысль, что меня сдерживает лишь отчаянная застенчивость, что я неопытнее, чем она думала сначала. Вне себя от нестерпимого любовного возбуждения она решила предпринять самую последнюю попытку и сыграть ва-банк, рискуя проиграть всю партию.
Она подошла вплотную, проворнее молнии скользнула мне на колени, обняла за шею, переплела обе руки у меня за головой, и ее губы яростно прильнули к моим губам; я чувствовала, как ее полуобнаженная волнующаяся грудь припала к моей груди и как ее переплетенные пальцы вцепились мне в волосы. Дрожь пробежала по всему телу, и соски мои напряглись.
Розетта не прерывала поцелуя; ее губы вбирали в себя мои, зубы легонько стукались о мои зубы, наше дыхание смешалось. Я на мгновение отпрянула и два-три раза повела головой из стороны в сторону, пытаясь уклониться от поцелуя, но непреодолимое влечение вновь потянуло меня вперед, и я вернула ей поцелуй почти с тою же пылкостью, с какой она мне его подарила. Уж и не знаю, что вышло бы изо всего этого, но тут снаружи донесся заливистый лай и шорох царапающихся в дверь лап. Дверь поддалась, в хижину, повизгивая, вприпрыжку вбежала крупная белая борзая.
Розетта вскочила и одним прыжком метнулась в противоположный конец комнаты; прекрасная борзая весело и дружелюбно прыгала вокруг нее, пытаясь поймать в воздухе и лизнуть ее руки; Розетта была в таком смятении, что ей с превеликим трудом удалось расправить на плечах накидку.
Эта борзая была любимая собака ее брата Алкивиада; он никогда с ней не расставался, и видя ее, можно было не сомневаться, что ее хозяин где-нибудь поблизости: вот что испугало бедную Розетту.
И впрямь, не прошло и минуты, как появился Алкивиад — в сапогах со шпорами, с хлыстом в руке.
— А, вот вы где, — сказал он. — Я уже час ищу вас и нипочем бы не нашел, если бы мой славный Снюг не учуял вас в вашей норке. — И он метнул в сестру наполовину строгий, наполовину насмешливый взгляд, от которого она покраснела до корней волос. — Вам, наверное, пришла нужда побеседовать на весьма щекотливые темы, коль скоро вы удалились в такое уединенное место? Надо думать, вы толковали о богословии и о двойственной природе души?
— Ах, нет, упаси Бог; мы предавались куда менее возвышенным занятиям: ели пирожное и болтали о модах, вот и все.
— Ни за что не поверю: судя по вашему виду, вы углубились в рассуждения о сущности нежных чувств, но после столь туманных разговоров не худо и развеяться, а потому полагаю, что недурно было бы вам вместе со мной совершить небольшую прогулку верхом. У меня новая кобыла, надо бы ее опробовать. Вы тоже прокатитесь на ней, Теодор, и мы поглядим, какова она под седлом.
Мы вышли втроем: он протянул руку мне, я Розетте; наши лица разительно отличались своим выражением. Алкивиад казался задумчивым, я была в самом добром расположении духа, Розетта же крайне огорчена.
Алкивиад появился весьма кстати для меня и весьма некстати для Розетты, которая потеряла, или думала, что потеряла, весь выигрыш от своих искусных атак и хитроумной тактики. Теперь надо было все начинать сначала; а ведь еще четверть часа — и черт меня побери, если я знаю, к какой развязке могло привести наше приключение; я попросту не представляю себе, до чего бы мы дошли. Возможно, не вмешайся Алкивиад в самый рискованный момент, как бог из колесницы, все сложилось бы к лучшему: пускай бы дело кончилось так или иначе. На протяжении этой сцены я два-три раза уже готова была признаться Розетте, кто я такая, но страх, что меня примут за авантюристку и тайна моя будет разглашена, удержал у меня на устах слова, уже готовые с них сорваться.
Дальше так продолжаться не могло. Оставалось только уезжать: это было единственное средство покончить с безысходной интригой, и за обедом я по всем правилам уведомила, что назавтра уеду. Розетте, которая сидела рядом со мной, едва не стало дурно от этого известия; она выронила из рук бокал. Ее миловидное лицо покрыла внезапная бледность; она бросила на меня жалобный взгляд, полный упрека, и под этим взглядом я смутилась и разволновалась почти так же, как она сама.
Тетушка воздела свои старческие морщинистые руки в жесте горестного изумления и тоненьким надтреснутым голоском, дрожащим еще больше обычного, сказала мне: «Ах, милый господин Теодор, неужели вы нас покидаете? Нехорошо: вчера вы и виду не подавали, что собираетесь уехать. Почты не было: значит, писем вы не получали и у вас нет никаких причин для спешки. Вы посулили нам еще две недели, а теперь отнимаете их у нас: воистину вы не вправе так поступать; что подарено, того нельзя забирать обратно. Видите, какую гримасу состроила Розетта, как она на вас обижается; предупреждаю, что буду на вас в не меньшей обиде и сострою такую же ужасную гримасу, причем в шестьдесят восемь лет гримасы выходят куда более устрашающие, чем в двадцать три. Смотрите, вы добровольно подвергаете себя гневу тетки и племянницы, и все это ради невесть какой прихоти, которая внезапно пришла вам в голову между грушей и сыром».
Алкивиад, грохнув кулаком по столу, поклялся, что скорее забаррикадирует двери замка и перережет сухожилия моему коню, чем даст мне уехать.
Розетта устремила на меня еще один взгляд, такой печальный и умоляющий, что им не тронулся бы разве что тигр, который постился неделю. Я не устояла, и хотя была этим крайне удручена, торжественно пообещала остаться. Милая Розетта готова была за эту любезность кинуться мне на шею и расцеловать; своей огромной ладонью Алкивиад накрыл мою руку и с такой силой встряхнул ее, что чуть не вывихнул мне плечо, сплющил рукопожатием мои кольца, так что из круглых они превратились в овальные, и весьма основательно помял мне три пальца.
Старуха на радостях втянула в себя огромную понюшку табака.
Однако к Розетте не вполне вернулась обычная веселость; мысль о том, что я могу уехать и что мне этого захотелось, мысль, дотоле еще не приходившая ей на ум, повергла ее в глубокую задумчивость. Краски, которые сообщение о моем отъезде согнало с ее щек, вернулись, но не столь яркие, как прежде; на лице ее осталась бледность, а в глубине ее души — беспокойство. То, как я себя с ней вела, все больше и больше ее поражало. После явных знаков внимания и поощрения, которые она мне оказывала, ей непонятно было, по какой причине я отношусь к ней столь сдержанно: ей хотелось до моего отъезда добиться от меня решительного шага, а о дальнейшем она не заботилась, полагая, что без труда сумеет удержать меня при себе так долго, как ей заблагорассудится.
В этом она была права, и не будь я женщиной, ее расчеты оправдались бы, ибо, что ни говори, о пресыщенности наслаждением и отвращении, которое обычно следует за обладанием, всякий мужчина, если он не лишен сердца и не впал в самое жалкое и неизлечимое разочарование, чувствует, что любовь его лишь возрастает от взаимности, и весьма часто для того, чтобы удержать поклонника, замыслившего удалиться, нет средства лучше, чем отдаться ему с полным самозабвением.
Розетта намеревалась до моего отъезда подвигнуть меня на решительный шаг. Зная, как нелегко бывает с былой непринужденностью возобновлять прерванную связь, и к тому же сомневаясь, что когда-нибудь нам с нею еще представятся столь благоприятные обстоятельства, она не пренебрегала ни единым случаем побудить меня к решительному объяснению и отказу от уклончивых маневров, из которых я соорудила себе прикрытие. Я, со своей стороны, недвусмысленно и твердо намеревалась избегать любых встреч, подобных той, в лесном павильоне, но все-таки не могла, не ставя себя в дурацкое положение, держаться с Розеттой чересчур холодно и подчинять наши с ней отношения ребяческому благоразумию, поэтому я не очень-то понимала, какую линию поведения избрать, и старалась, чтобы при нас всегда оказывался кто-нибудь третий. Розетта, напротив, делала все, что могла, чтобы остаться со мною наедине, и частенько в этом преуспевала, поскольку замок был расположен далеко от города и окрестное дворянство редко его посещало. Мое глухое сопротивление печалило и удивляло ее; временами ее одолевали тревоги и сомнения относительно власти ее чар, и видя, как мало ее любят, она подчас готова была поверить, что она безобразна. Тогда она с удвоенной силой принималась прихорашиваться и кокетничать, и, хотя траур не позволял ей прибегать к особым ухищрениям в наряде, она все же умела приукрашать и разнообразить его так, что с каждым днем становилась вдвое-втрое прелестней, а это не так уж мало. Она пускала в ход все средства: являлась игривой, меланхоличной, нежной, страстной, предупредительной, кокетливой, даже подчас жеманной; одну за другой она примеряла все эти очаровательные маски, которые до того идут женщинам, что невозможно бывает решить, маска это или истинное лицо; она сменила один за другим не то восемь, не то десять совершенно различных образов, чтобы понять, какой из них нравится мне больше и удержаться в нем. Она создала для меня своими силами целый сераль, мне оставалось только бросить платок; но, разумеется, она ничего не добилась.