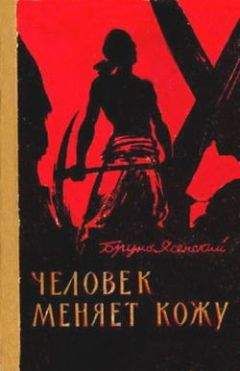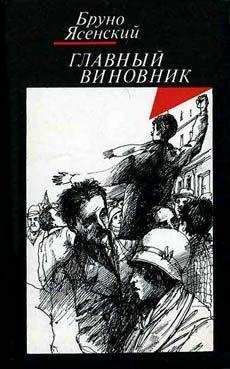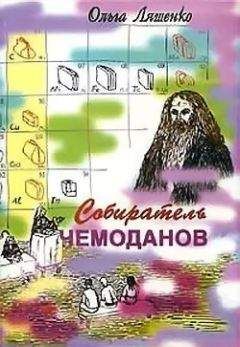– Да брось, пустяки…
– Врёшь! Самому тебе больно было. Не притворяйся, что тебе безразлично. Никому такие вещи не безразличны. Плюют тебе в лицо, а ты утираешься и делаешь вид, будто не заметил. Приехал какой-то товарищ Морозов, ни пев, ни плясав, сел на место, которое ты расчистил собственными руками, и в награду за всё снял тебя с работы, как мальчишку. И никто слова не пикнул. Может, не так было? А потом приходит какой-то пройдоха с кандидатским билетом, заявляет, что ты шпион и басмач, и тебя выгоняют из партии. И опять хоть бы кто-нибудь заикнулся в твою защиту. Выгнали – и ладно. Неужели тебе не достаточно? Зачем ты ещё лезешь к этим людям, просишься, доказываешь, хочешь кого-то убедить? Чем?
– Но ведь партия…
– Партия! Партия! Партия – это люди! Если партия так ценит и дорожит преданными работниками, то пусть поищет других. Ты достаточно долго отдавал партии свою жизнь, силы, а много за это получил? Пусть трудятся те, кто получает от этого «моральное удовлетворение». А ты? Большое удовлетворение получил? Клеймо на лбу и вон? И всё тебе мало. Разве вне партии ты не сможешь жить и работать? Неужели у тебя нет никакой потребности в личной жизни? Неужели ты не устал от этой ежедневной чехарды? Давай уедем отсюда. Мало ли строительств в Советском Союзе?
– Ты это не всерьёз, Валя. Неужели ты предлагаешь мне бежать?
– Да ведь ты сам затевал дело в ЦКК, добивался пересмотра. Никто за тобой не гонится. Если не явишься, просто не будут пересматривать. Всё равно, сам говоришь, нет у тебя доказательств, которые были бы в состоянии повлиять на перемену решения.
– Мой отъезд сейчас, даже на короткое время, рассматривался бы как неопровержимое подтверждение моей виновности. Это совершенно немыслимо. Никуда я не уеду.
– Ну, конечно, разве можно покинуть свой прелестный Таджикистан! Действительно, как это я могла даже на минуту предложить, что ты способен на подобную жертву? Я вот могла всё бросить и поехать за тобой, даже минуту не думая, что чем-нибудь жертвую… Впрочем, не стоит начинать совместную жизнь с упрёков, лучше не начинать её вовсе…
– Значит, ты раздумала?
– Останусь с тобой. Поедем завтра в Сталинабад. Давай об этом больше не говорить.
– Это твёрдо, любимая?
– Вполне. Больше никаких упрёков от меня не услышишь.
…На дворе грохотали грузовики, заставляя тонко звенеть стёкла гостиничных окон, и тени двух тополей за окном, как два больших сырых пятна, медленно высыхали на полу…
Уртабаев ушёл в город хлопотать о билетах на завтрашний поезд. Валентина осталась ждать в гостинице. Она вытянулась на постели и смежила глаза. За окном скрипела арба, кричали верблюды, хрипло побрякивая колоколами. День, подобрав свои пожитки, покидал город, и, как дым от потушенного костра, тянулись по улицам сумерки.
Уртабаев не возвращался. По улицам уже текла ночь, и мрак в комнате отслаивался густой, как ил. Синицына, не раскрывая глаз, чувствовала веками тьму. Уртабаев не возвращался. Тогда мысль, давно уже назойливо звеневшая, впервые больно уколола сознание: все учреждения давно закрыты, Уртабаев, очевидно, не вернётся…
Синицына не открывала глаз. Укол рассосался и не причинял больше боли. Она подумала, что по сути дела решила связать свою жизнь с человеком, о котором не знает ровно ничего, кроме одного романтически-благородного жеста. Вся эта затея показалась ей вдруг бессмысленной. Человек, против которого должны были её насторожить никем до сих пор не опровергнутые улики, мог прекрасно играть перед ней комедию, как играл её перед всеми. И сейчас, укачиваемый бегом поезда где-нибудь далеко от Ташкента, он пересекает степь, убегая от погони, оставив в гостиничной комнате незваный и ненужный багаж – жену секретаря парткома, прибежавшую за тысячу километров навязывать ему свою любовь.
Она попробовала обидеться, может быть, заплакать – плач принёс бы покой и облегчение, – но ощущения обиды не было, было ощущение бестолочи и огромной пустоты. Жизнь вчерашняя, завтрашняя, сегодняшний инцидент – всё казалось одинаково нелепо. Была большая усталость и желание спать. Синицына попробовала открыть глаза и, не открыв их, уснула.
…Проснулась от чьего-то прикосновения. В комнате горел свет. На краю постели сидел Уртабаев. Она потрогала его рукой и улыбнулась, как девочка, которой приснился плохой сон. Ей не хотелось спрашивать его ни о чём. Он был здесь, не ушёл, она была не одна, и это было главное. Она с благодарностью обняла неповоротливыми от сна руками его большую шею.
Перед открытыми глазами проплыл потолок, разделённый фанерной решёткой на двенадцать равных квадратов. Уртабаев спал. Валентина облокотилась на подушку и в молчании созерцала его лицо. Тёмные губы, как у человека, объевшегося черникой, мясистый нос, на правой щеке, около уха, большая родинка, похожая на сцарапанную болячку. Синицына брезгливо потрогала родинку пальцем.
Карманные часы Уртабаева показывали одиннадцать. Синицына тихонько соскочила с постели и стала одеваться. Вода в заржавевшем умывальнике текла капризной струёй, достаточной, чтобы освежить лицо, но не способной смыть с него мыло. Провозившись около умывальника, Валентина присела на подоконник. Уртабаев перевернулся на бок. Она подошла и потрогала его за плечо.
– Вставай, уже поздно. И, ради бога, не сопи так громко. У тебя, наверное, в носу полип.
Он одним броском присел на постели.
– Ты встала? Разве уже так поздно? Отвернись к окошку, я сейчас оденусь.
Он долго полоскался у умывальника, ловя неуклюжими руками неуловимую струю.
– Ну, я готов. Знаешь, пора уже собираться.
– А мне нечего собирать. Всё моё на мне.
– Хорошо начинать совместную жизнь без балласта каких-либо вещей, правда? Всё-таки кое-что придётся купить. Давай уж займёмся этим в Сталинабаде.
– Как хочешь…
В купе, несмотря на раскрытые настежь окна, было душно и потно. Поезд долго не трогался, снаряжаясь в трёхдневное путешествие. Соседями по купе оказались знакомый секретарь шуроабадокого райкома и какой-то узбекский замнарком. Уртабаев ушёл и вернулся с охапкой лепёшек и персиков. Он беспрерывно хлопотал, три раза в течение получаса справлялся у Валентины, не жарко ли ей, как будто мог чем-нибудь помочь, и то и дело гладил её руку. Секретарь шуроабадского райкома, издавна знавший Синицыну и её мужа, смотрел удивлённо раскрытыми глазами, ничего не понимая. Когда же наконец понял, смущённо заслонился газетой и притворился усердно читающим.
Синицыну в равной мере раздражали встреча со знакомым человеком и предупредительная заботливость Уртабаева. Она резко отдернула руку, извинилась, что у неё болит голова, и, уткнувшись в угол купе, притворилась спящей.
Поезд подолгу стоял на станциях, пропуская встречные составы. Пёстрые вокзалы с голубыми куполами назойливо гремели чайниками, гортанными криками водоносов, гамом взбудораженной толпы. Вокзалы были похожи друг на друга, и пассажир, вздремнув под размеренный грохот колёс, очнувшись на десятой остановке, сонно выглядывал в окно, приходил к заключению, что стоит ещё на той же станции, и, проклиная медлительность азиатских поездов, спешил опять уйти с головой в дрёму.
Уртабаев вполголоса вёл беседу с секретарем шуроабадского райкома и узбекским замнаркомом. У замнаркома были длинные усы и бритый подбородок. Замнарком, видимо, недавно обрил бороду. Разговаривая, он то и дело подносил руку к лицу и, не находя бороды, заслонял ладонью оголённый подбородок, как полураздетая женщина прикрывает слишком глубокий вырез. Он жевал «нас» и стыдился своей привычки. Когда ему надо было высыпать щепотку табака на ладонь, он отворачивался и делал это украдкой.
Секретарь шуроабадского райкома курил невозможные папиросы и привычки своей не стыдился. Цигарки он крутил тут же из исчерканной карандашом ведомости, отпечатанной на папиросной бумаге. Синицына вспомнила, что секретарь разводил в своём районе опытную плантацию табака, который по своему качеству должен был конкурировать с турецким. Опыт вышел не вполне удачен, и хозяйственные организации, несмотря на всё красноречие секретаря, разводить табак в более широких масштабах запретили. Секретарь не пробовал оспаривать решение, но в знак молчаливого протеста сам курил табак исключительно собственного производства, находя в нём особый вкус, хотя от его табака воротило нос на расстоянии ружейного выстрела.
Они беседовали оживлённо о том, о чём в это время года разговаривают, встретившись на путях, все среднеазиатские работники, – они говорили о хлопке, сбор которого близился и волновал, заставляя прикидывать по количеству проведённых окучек приблизительно цифры выполнений и недовыполнений. Замнарком достал из кармана горсть отборных египетских семян из подшефного колхоза. Секретарь и Уртабаев мяли семена в пальцах, пробовали на зуб, как крестьяне пробуют пшеницу. Замнарком рьяно отстаивал качество семян. Потом секретарь и замнарком достали из портфелей свои сводки, стали сравнивать количество окучек и итоги борьбы с гибридами, и секретарь побил замнаркома стопроцентной очисткой своих полей от гибридов вручную, силами местной комсомольской организации. Они поспорили насчёт предстоящих сборов, запутавшись при переводе гектаров на тонны. Замнарком за отсутствием бороды теребил усы и волновался, настаивая на цифре, указанной в его намётке. Уртабаев приводил средние цифры прошлогоднего сбора в Египте и развёртывал длинную теорию реорганизации всей системы поливов.