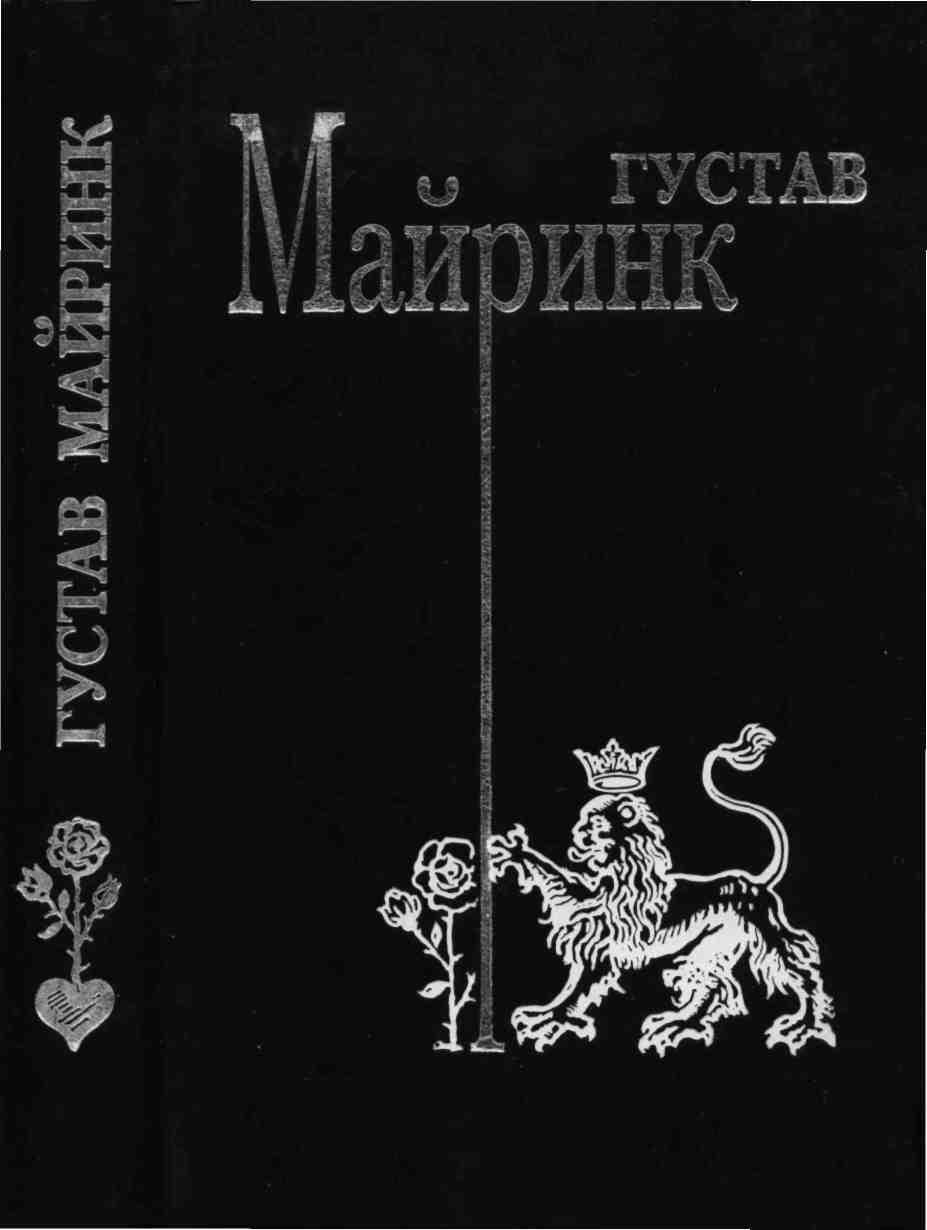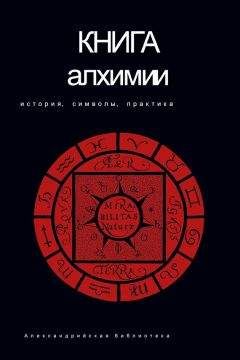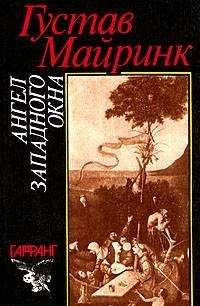прощу себе...
— Простите, простите, милая... — При виде того, с каким ужасом отшатнулась от меня госпожа Фромм, слова замерли на моих губах. — Что с вами, дорогая?
— На тебе знак! Знак! — обреченно пролепетала она. — О, теперь для меня... все... все... кончено!
Я вовремя успел поддержать ее. Она бессильно повисла, обвив мою шею руками.
Внезапно вспыхнувшее чувство трогательной сопричастности, проникнутое щемящим состраданием, ощущение какой-то темной вины, долга и еще множество других эмоций, уже совсем смутных и непонятных, но от этого никак не менее сильных, подхватили меня и понесли...
Сильно обеспокоенный состоянием Иоганны, я попытался заглянуть в крепко прижатое к моей груди лицо — и вдруг поцеловал ее, как... как после вековой разлуки. Закрыв глаза, повиснув в полуобмороке в моих объятиях, она ответила на мой поцелуй — так страстно, так неистово, так самозабвенно... Потрясенный, я не знал, что и думать: такая тихая и робкая женщина — и вдруг...
Вдруг?.. Господи, да что я такое пишу? А как же может быть иначе? Ведь этот взрыв не имеет ни малейшего отношения к человеческим чувствам, всегда одинаково неповоротливым и инертным. Никакого намерения, желания, даже ничего похожего на «любовь с первого взгляда» здесь не было! Это был — и есть! — рок, неизбежность, долг, изначальная необходимость!..
Итак, у нас друг от друга больше секретов нет: Яна Фромон и Иоганна Фромм, так же как я и Джон Ди... как бы это лучше сказать?., мы — одно сплетение на предвечном ковре, сплетение, которое повторяется до тех пор, пока не будет закончен орнамент.
Значит, я и есть тот самый «англичанин», которого с детства «знало» раздвоенное сознание Иоганны. Встреча эта так меня потрясла, что я и думать не хотел ни о ком, кроме Иоганны, моей жены, с которой нас связали через века роковые узы! Ну вот, невольно подумал я, то хорошо, что хорошо кончается... И в самом деле, наш странный парапсихологический роман мог бы иметь вполне банальный эпилог, если бы не Иоганна...
Когда приступ слабости миновал, она твердо стояла на своем: все, что было между нами, иссякло, ибо было проклято изначально. Говорила, что потеряла всякую надежду, а все ее сверхчеловеческие усилия жертвенной любви напрасны, так как «Другая» сильнее. Она, наверное, могла бы помешать «Другой», но победить ее, а тем более отправить в небытие — нет, нет и нет!
Пытаясь сменить тему, она заговорила о том, что ее так испугало, когда она вошла в кабинет: над моей головой висело яркое, четко очерченное сияние — лучезарный карбункул, величиной с кулак и прозрачный, как алмаз. Отметая все варианты моих «правдоподобных» объяснений этого феномена — обман зрения и т.д.,— Иоганна не давала себя смутить: по своим «состояниям» она знает этот знак давно и очень хорошо. Якобы ей было указано, что он возвещает конец всем ее надеждам. И уверенность эта оказалась непоколебимой.
Иоганна не уклонялась от поцелуев, не пыталась оборвать поток нежных слов, льющихся из моей души. Говорила, что она моя, моей и останется... «Зачем нам жениться, мы ведь давным-давно обвенчаны, и нашему браку столько лет, что мои супружеские права не сможет оспорить ни одна из ныне живущих женщин...» И тогда я наконец отступил. Величие ее чистой, самозабвенной любви повергло меня к ее ногам, я целовал их как древнюю и вечно юную святыню. В эту минуту я чувствовал себя как жрец пред статуей Исиды в храме.
И тут Иоганна вдруг отпрянула, отчаянно умоляя меня подняться; при этом она жестикулировала как безумная, рыдала и выкрикивала сквозь слезы:
— На мне, мне одной вся вина! Я, только я должна молить о милости и отпущении... Только жертвой искуплю я мой грех!
Больше от нее ничего нельзя было добиться. Понимая, что такое нервное перенапряжение ей не по силам, я как мог постарался
успокоить Иоганну и даже сам, не обращая внимания на сопротивление, уложил ее в постель.
Она так и заснула, как ребенок, сжимая мою руку. Ну что ж, глубокий сон пойдет ей на пользу.
Как-то она будет себя чувствовать, когда проснется?
Мое перо едва поспевает за стремительным развитием событий, буквально захлестнувших меня.
Пользуясь временным ночным затишьем, спешу хоть что-то занести на бумагу.
Уложив в постель Иоганну — или теперь следует говорить: Яну? — я вернулся в кабинет и добросовестно записал в дневник — ничего не поделаешь, уже привычка — отчет о встрече с Липотиным.
Потом взял «Lapis sacer et praecipuus manifestationis» Джона Ди и принялся внимательно осматривать цоколь и выгравированную на нем надпись. Однако мой взгляд все чаще соскальзывал с золотой вычурной вязи английских литер и подолгу задерживался на черных лоснящихся гранях кристалла. Ощущение было сходным с тем — не знаю, может, это мне задним числом так кажется, — какое было у меня при созерцании флорентийского зеркала из липотинской лавки: тогда я впал незаметно в прострацию и увидел себя стоящим на вокзале в ожидании моего друга Гертнера.
Как бы то ни было, а через некоторое время я уже глаз не мог отвести от зеркальных плоскостей магической буссоли. Потом я увидел... нет, не со стороны — в этом-то и заключался весь фокус! — а словно втянутый стремительным водоворотом в кромешную ночь внезапно разверзшейся в кристалле бездны, увидел вокруг себя табун летящих бешеным галопом лошадей какой-то необычайно бледной буланой масти; под копытами — темная, почти черная, колышущаяся зелень... Первой мыслью — надо сказать, совершенно ясной и отчетливой — было: ага, зеленое море моей Иоганны! Но уже через несколько минут, когда глаза привыкли к сумраку, я понял, что предоставленный самому себе табун, подобно неистовому воинству Вотана, сломя голову мчится над ночными, колосящимися жнивьем нивами. И тут меня осенило: это души тех многих миллиардов людей, которые мирно почивают в своих постелях, в то время как их расседланные, оставшиеся без всадников скакуны,
повинуясь темному сиротскому инстинкту, ищут далекую неведомую родину, о которой они, вечные странники, ровным счетом ничего не знают и даже не представляют, где она находится, — только смутно догадываются, что потеряли ее и тщетны отныне их поиски.
Подо мной была белая как снег лошадь, которая по сравнению с другими, булаными, казалась более реальной...
Дикие хрипящие мустанги, предвестники шторма, катились пенящимися гребнями волн по изумрудному морю, проносясь над поросшей лесом горной грядой. Вдали поблескивала серебряная лента какой-то прихотливо извилистой реки...
Внезапно открылась обширная