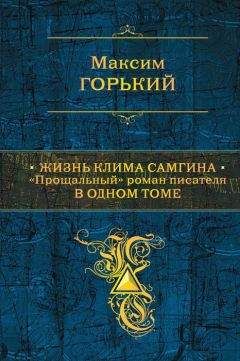Говоря, он не смотрел на нее, но знал, что ее глаза блестят иронически.
– Даже – подавляю? – спросила она. – Вот как?.. – И внушительно произнесла:
– «Сократы, Зеноны и Диогены могут быть уродами, а служителям культа подобает красота и величие», – знаешь, кто сказал это?
– Нет, – ответил Самгин, оглядываясь, – все вокруг как будто изменилось, потемнело, сдвинулось теснее, а Марина – выросла. Она спрашивала его, точно ученика, что он читал по истории мистических сект, по истории церкви? Его отрицательные ответы смешили ее.
– Может быть, читал хоть роман Мельникова «На горах»?
– «В лесах» – читал.
– Ну, это – хорошо, что «На горах» не читают; там автор писал о том, чего не видел, и наплел чепухи. Все-таки – прочитай.
– Чепуху? – спросил Самгин.
– Знать надобно все, тогда, может быть, что-нибудь узнаешь, – сказала она, смеясь.
Этот смех, вообще – неуместный, задевал в Самгине его чувство собственного достоинства, возбуждал желание спорить с нею, даже резко спорить, но воле к сопротивлению мешали грустные мысли:
«Она очень свободно открывает себя предо мною. Я – ничего не мог сказать ей о себе, потому что ничего не утверждаю. Она – что-то утверждает. Утверждает – нелепость. Возможно, что она обманывает себя сознательно, для того чтоб не видеть бессмыслицы. Ради самозащиты против мелкого беса...»
У нее распустилась прическа, прядь волос упала на плечо и грудь, – Марина говорила вполголоса:
– Тогда Саваоф, в скорби и отчаянии, восстал против Духа и, обратив взор свой на тину материи, направил в нее злую похоть свою, отчего и родился сын в образе змея. Это есть – Ум, он же – Ложь и Христос, от него – все зло мира и смерть. Так учили они...
«Это, конечно, мистическая чепуха, – думал Самгин, разглядывая Марину исподлобья, сквозь стекла очков. – Не может быть, чтоб она верила в это».
– И радость – радения о Духе – была убита умом...
– Радение? – спросил Самгин. – Это – кажется, нечто вроде афинских ночей или черной мессы?
– Грязная выдумка попов, – спокойно ответила Марина, но тотчас же заговорила полупрезрительно, резко:
– До чего вы, интеллигенты, невежественны и легковерны во всем, что касается духа народа! И сколько впитано вами церковного яда... и – ты, Клим Иванович! Сам жаловался, что живешь в чужих мыслях, угнетен ими...
Нахмурясь, Самгин сказал:
– Не помню... сомневаюсь, чтоб я жаловался! Но если и так, то ведь и ты не можешь сказать, что живешь своими мыслями...
– Почему – не могу? – спросила она, усмехаясь. – Какие у тебя основания утверждать, что – не могу? Разве ты знаешь, что прочитано, что выдумано мною? А кроме того: прочитать – еще не значит поверить и принять...
Она как-то воинственно встряхнулась, забросила волосы за плечо и сказала весьма решительно:
– Ну – довольно! Я тебе покаялась, исповедовалась, теперь ты знаешь, кто я. Уж разреши просить, чтобы все это – между нами. В скромность, осторожность твою я, разумеется, верю, знаю, что ты – конспиратор, умеешь молчать и о себе и о других. Но – не проговорись как-нибудь случайно Валентину, Лидии.
Несколько секунд она молчала, закрыв глаза, – Самгин успел пробормотать:
– Предупреждение совершенно излишне...
– Годится, на всякий случай, – сухо откликнулась она. – Теперь – о делах Коптева, Обоимовой. Предупреждаю: дела такие будут повторяться. Каждый член нашей общины должен, посмертно или при жизни, – это в его воле, – сдавать свое имущество общине. Брат Обоимовой был член нашей общины, она – из другой, но недавно ее корабль соединился с моим. Вот и всё... Самгин, подумав, сказал:
– Мне остается поблагодарить тебя за доверие. – И неожиданно для себя прибавил: – У меня действительно были какие-то... мутные мысли!
– Если они исчезли, это – хорошо, – заметила Марина.
– Да, исчезли, – подтвердил он и, так как она молчала, прихлебывая чай, сказал недоуменно: – Ты не обидишься, если я скажу... повторю, что все-таки трудно понять, как ты, умница такая...
Марина не дала ему договорить, – поставив чашку на блюдце, она сжала пальцы рук в кулак, лицо ее густо покраснело, и, потрясая кулаком, она проговорила глуховатым голосом:
– Я ненавижу поповское православие, мой ум направлен на слияние всех наших общин – и сродных им – в одну. Я – христианство не люблю, – вот что! Если б люди твоей... касты, что ли, могли понять, что такое христианство, понять его воздействие на силу воли...
Самгин, не вслушиваясь в ее слова, смотрел на ее лицо, – оно не стало менее красивым, но явилось в нем нечто незнакомое и почти жуткое: ослепительно сверкали глаза, дрожали губы, выбрасывая приглушенные слова, и тряслись, побелев, кисти рук. Это продолжалось несколько секунд. Марина, разняв руки, уже улыбалась, хотя губы еще дрожали.
– Вот как рассердил ты меня! – сказала она, оправляя кружева на груди.
Самгин сочувственно улыбнулся, не находя, что сказать, и через несколько минут, прощаясь с нею, ощутил желание поцеловать ей руку, чего никогда не делал. Он не мог себе представить, что эта женщина, равнодушная к действительности, способна ненавидеть что-то.
«Вот как? – оглушенно думал он, идя домой, осторожно спускаясь по темной, скупо освещенной улице от фонаря к фонарю. – Но если она ненавидит, значит – верит, а не забавляется словами, не обманывает себя надуманно. Замечал я в ней что-нибудь искусственное?» – спросил он себя и ответил отрицательно.
Все, что он слышал, было совершенно незначительно в сравнении с тем, что он видел. Цену слов он знал и не мог ценить ее слова выше других, но в памяти его глубоко отчеканилось ее жутковатое лицо и горячий, страстный блеск золотистых глаз.
«Да, она объяснила себя, но – не стала понятней, нет! Она объяснила свое поведение, но не противоречие между ее умом и... верованиями».
Недели две он жил под впечатлением этого неожиданного открытия. Казалось, что Марина относится к нему суше, сдержаннее, но как будто еще заботливей, чем раньше. Не назойливо, мимоходом, она справлялась, доволен ли он работой Миши, подарила ему отличный книжный шкаф, снова спросила: не мешает ли ему Безбедов?
Нет, Безбедов не мешал, он почему-то приуныл, стад молчаливее, реже попадал на глаза и не так часто гонял голубей. Блинов снова загнал две пары его птиц, а недавно, темной ночью, кто-то забрался из сада на крышу с целью выкрасть голубей и сломал замок голубятни. Это привело Безбедова в состояние мрачной ярости; утром он бегал по двору в ночном белье, несмотря на холод, неистово ругал дворника, прогнал горничную, а затем пришел к Самгину пить кофе и, желтый от злобы, заявил:
– Подожгу флигель, – к чорту все!
– Предупредите меня об этом за день, чтоб я успел выехать из квартиры, – серьезно и не глядя на него сказал Самгин, – голубятник помолчал и так же серьезно. прохрипел:
– Ладно.
Вслед за тем его взорвало:
– Р-россия, чорт ее возьми! – хрипел он, задыхаясь. – Везде – воры и чиновники! Служащие. Кому служат? Сатане, что ли? Сатана – тоже чиновник.
Самгин пил кофе, читая газету, не следил за глупостями неприятного гостя, но тот вдруг заговорил тише ч как будто разумнее:
– Этот парижский пижон, Турчанинов, правильно сказал: «Для человека необходима отвлекающая точка». Бог, что ли, музыка, игра в карты...
Посмотрев на него через газету, Самгин сказал:
– А – голуби?
– А голубям – башки свернуть. Зажарить. Нет, – в самом деле, – угрюмо продолжал Безбедов. – До самоубийства дойти можно. Вы идете лесом или – все равно – полем, ночь, темнота, на земле, под ногами, какие-то шишки. Кругом – чертовщина: революции, экспроприации, виселицы, и... вообще – деваться некуда! Нужно, чтоб пред вами что-то светилось. Пусть даже и не светится, а просто: существует. Да – чорт с ней – пусть и не существует, а выдумано, вот – чертей выдумали, а верят, что они есть.
Он шумно встал и ушел. Болтовня его не оставила следа в памяти Самгина.
А Миша постепенно вызывал чувство неприязни к нему. Молчаливый, скромный юноша не давал явных поводов для неприязни, он быстро и аккуратно убирал комнаты, стирал пыль не хуже опытной и чистоплотной горничной, переписывал бумаги почти без ошибок, бегал в суд, в магазины, на почту, на вопросы отвечал с предельной точностью. В свободные минуты сидел в прихожей на стуле у окна, сгибаясь над книгой.
– Что читаешь? – спрашивал Самгин.
– Журнал «Современный мир», книгу третью, роман Арцыбашева «Санин». Самгин внушал ему:
– Отвечая, не следует вставать предо мною: ты – не солдат, я – не офицер.
– Хорошо, – сказал Миша и больше не вставал, лишив этим Самгина единственной возможности делать ему выговоры, а выговоры делать хотелось, и – нередко. Неосновательность своего желания Самгин понимал, но это не уменьшало настойчивости желания. Он спрашивал себя: