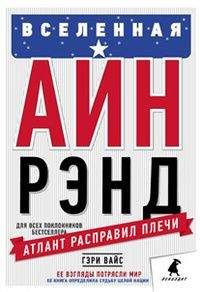— А если тебя оправдают?
— Тогда… — Он оглядел комнату. Спальню Винанда. — Я не хочу говорить об этом здесь. Но ты это знаешь.
— Ты очень любишь его?
— Да.
— Настолько, чтобы пожертвовать…
Он улыбнулся:
— Ты боялась этого с первого дня, как я вошел сюда?
— Да.
Он посмотрел прямо на нее:
— Ты думала, что это возможно?
— Нет.
— Только не моей работой, только не тобой, Доминик. Никогда. Но вот что я могу сделать для него — могу оставить это ему, если мне придется возвратиться в тюрьму.
— Ты будешь оправдан.
— Это не то, что мне хотелось услышать от тебя.
— Если тебя осудят… если тебя запрут в тюрьму и закуют в цепи… если твое имя будут поносить в каждой строчке грязных заголовков… если тебе не дадут спроектировать больше ни одного здания… если мне не позволят никогда вновь увидеть тебя… все это не имеет значения. Ну, не слишком большое. Только до некоего предела.
— Я ждал, когда ты это скажешь, вот уже семь лет, Доминик.
Он взял ее руку, поднял и прижал к губам, и она ощутила его губы там, где были губы Винанда. Затем он встал.
— Я буду ждать, — произнесла она. — Я буду спокойна. Я к тебе и близко не подойду. Обещаю.
Он улыбнулся и кивнул. Потом он вышел.
«Случается, хотя и редко, что силы мира, слишком могущественные, чтобы оценить их в полной мере, фокусируют свое внимание на одном событии, подобно солнечным лучам, сфокусированным в одной точке линзы, — здесь они достигают такой яркости, что больно смотреть. Подобное событие — разрушение Кортландта. Здесь, как в миниатюрной модели космоса, мы можем наблюдать зло, терзающее нашу бедную планету с момента ее зарождения в галактической пыли, — Я человека, презревшего все заповеди сострадания, человечности и братства. Человека, разрушившего крышу над головой обездоленных. Человека, обрекшего тысячи людей на ужас трущоб, грязь, болезни и смерть. В то время как пробуждающееся общество с новым осознанием гуманности делает героическое усилие спасти униженных, когда лучшие умы общества объединяются, чтобы создать для них достойное жилище, эгоцентризм одного разносит на куски достижения других. И ради чего же? Ради некоего туманного понятия, личного тщеславия, ради некоей пустопорожней идеи. Я сожалею, что законы нашего штата допускают только тюремное заключение за это преступление. Этот человек не достоин права на жизнь. Общество вправе освобождать себя от людей, подобных Говарду Рорку». Так писал Эллсворт М. Тухи на страницах «Новых рубежей».
Отклики на его слова шли из всех уголков страны. Взрыв Кортландта длился полминуты. Взрыв общественной ярости продолжался и продолжался: из поднявшихся облаков щебеночной пыли все падали и падали стекла, ржавчина и мусор.
Рорк выслушал обвинения большого жюри, не признал себя виновным и отказался что-либо прибавить к этому. Он был отпущен под залог, внесенный Гейлом Винандом, и теперь ожидал суда.
В обществе широко обсуждали причины его поступка. Некоторые утверждали, что здесь замешана профессиональная зависть. Другие находили сходство между чертежами Кортландта и стилем построек Рорка, который Китинг, Прескотт и Уэбб могли слегка позаимствовать — «законная адаптация», «нет права собственности на идеи», «в демократическом обществе искусство принадлежит народу», — Рорк же, в свою очередь, почувствовав плагиат, предался сладостной мести человека искусства.
Все это было не очень доказательно, но никто и не задумывался всерьез о подлинных причинах. Было ясно только, что один выступает против всех. Он не имел права на причину.
Дом, построенный ради благотворительности, предназначался для бедняков. Десять тысяч лет людям вбивали в голову, что благотворительность и самопожертвование являются, вне всяких сомнений, абсолютом, краеугольным камнем добродетели, высшим идеалом. Десять тысяч лет на людей давил пресс голосов, твердивших о служении и жертвах: основной закон жизни — жертвование; служи — и тебе будут служить, круши — и тебя сокрушат; жертвовать благородно; с одной стороны или с другой, но пользуйся этим; служи и жертвуй; служи, служи, служи…
А против всего этого — один, который не желал ни руководить, ни прислуживать. И тем самым совершал то единственное преступление, которое непростительно.
Это была настоящая сенсация, скандал, поднявший обычный шум и обычный всплеск праведного гнева людей, приготовившихся линчевать «виновного». Но к этому шуму добавлялась и агрессивная нотка личного негодования.
— Он просто маниакальный эгоцентрист, лишенный всякого представления о морали, — сказали:
светская дама, которая не осмеливалась даже помыслить о том, какие средства самовыражения остались бы у нее и чем она могла бы похваляться перед друзьями, если бы благотворительность не была добродетелью, извинявшей все;
работник социальной службы, который не нашел и не мог найти цели в жизни, ибо душа его была бесплодна, но прямо-таки купался в добродетели и пользовался незаслуженным уважением благодаря гибкости своих пальцев, копавшихся в ранах других;
романист, которому было бы нечего сказать, если бы у него отняли темы служения и жертвенности, который хныкал на глазах у тысяч своих почитателей, что он их любит бесконечно, и пусть они за это полюбят его, ну хоть чуточку;
журналистка, которая только что купила загородный особняк, потому что с нежностью писала о маленьком человеке;
маленькие люди, которые хотели слышать о любви, большой, всепобеждающей любви, которая распространяется на все, прощает все и разрешает все;
все те, кто мог существовать, только паразитируя на душах других.
Эллсворт Тухи сидел тихо, наблюдая, слушая и улыбаясь.
Гордона Л. Прескотта и Гэса Уэбба приглашали на обеды и коктейли, с ними обращались с нежной и участливой почтительностью, как с людьми, пережившими катастрофу. Они говорили, что не могут понять, чем руководствовался Рорк; и они требовали справедливости.
Питер Китинг нигде не появлялся. Он отказывался встречаться с прессой. Он отказывался от всех встреч. Но он написал заявление о том, что считает Рорка невиновным. В его заявлении содержалась одна любопытная фраза, последняя: «Пожалуйста, оставьте его в покое, почему бы вам не оставить его в покое?»
Пикеты Совета американских строителей дефилировали перед деловым центром Корда. Это было бессмысленно, потому что в конторе Рорка никто не работал. Все контракты были разорваны.
Это было проявление солидарности. Светская барышня, зашедшая к педикюрше, домашняя хозяйка, покупавшая морковь у уличного разносчика, бухгалтер, желавший стать пианистом и оправдывающий себя тем, что надо было содержать сестру, бизнесмен, ненавидевший свое дело, рабочий, ненавидевший свою работу, интеллигент, ненавидевший всех, — все братски объединились в удовольствии общего гнева, излечивавшего скуку и отвлекавшего их от самих себя, а они хорошо знали, какое благо отвлечься от самих себя. Читатели были единодумны. Пресса была единодушна.
Гейл Винанд шел против течения.
— Гейл! — выдохнул Альва Скаррет. — Мы не можем защищать поджигателей!
— Потише, Альва, пока я не выбил тебе зубы.
Гейл Винанд стоял один в центре своего кабинета, откинув голову назад, полный желания жить, — так он некогда стоял на пристани и смотрел на огни города в ночной темноте.
«В грязном вое, поднявшемся вокруг нас, — говорилось в передовице «Знамени», подписанной большими буквами «Г. В.», — никто, кажется, не вспоминает, что Говард Рорк сдался правосудию по собственной воле. Если он взорвал это здание — разве он должен был оставаться на месте, пока его не арестуют? По нам не хочется ждать, когда станут ясными его побуждения. Мы осудили его даже без предварительного слушания. Мы хотим, чтобы он был виновен. Мы восхищены этим делом. То, что мы слышим, не негодование, это глумление. Любой безграмотный маньяк, идиот, совершивший отвратительное убийство, находит в нас проявление симпатии и целую армию защитников-гуманистов. Но гений виновен по определению. Всеми признано, что порочно клеймить человека просто за то, что он мал и слаб. До какой же степени должно опуститься общество, чтобы клеймить человека только за то, что он силен и велик. Но такова, тем не менее, в целом моральная атмосфера нашего века — века эпигонов».
«Мы слышим крики, — говорилось в другой передовице Винанда, — что Говард Рорк проводит время в судах или в ожидании судов. Что ж, это правда. Человек, подобный Рорку, предстает перед судом общества всю свою жизнь. Но кто в этом виновен — Рорк или общество?»
«Мы никогда не поднимались до попытки понять, что такое человеческое величие и как его распознать, — говорилось еще в одной статье Винанда. — Мы в каком-то тошнотворном приступе сентиментальности пришли к выводу, что величие состоит в постоянном самопожертвовании. Самопожертвование, истекаем мы слюной, — это высшая добродетель. Но разве жертвенность — добродетель? Может ли человек жертвовать своей целостностью? Своей честью? Своей свободой? Своим идеалом? Своими убеждениями? Чистотой своих чувств? Свободой мыслить? Все это — высшие достижения личности. И жертва ради них — не жертва, а благо. Они выше любой жертвы. Так не следует ли прекратить проповедь опасной и порочной глупости? Самопожертвование? Но именно собственной личностью мы не можем и не должны жертвовать. Это не подлежит жертвованию, ибо это мы должны ставить в человеке превыше всего».