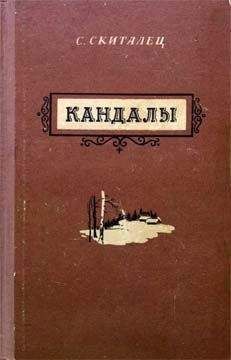— А как же? — беспечно ответила Сашенька. — Ведь я же сельская учительница!
— Теперь надо идти к рабочим! — сурово сказала Ирина. — Народничество отмирает! Мы обязаны воздействовать на рабочие массы, а для этого необходимо самим нам кое-чему научиться! Вот и прав Вукол!
Когда пришли — на столе лежало письмо. Кирилл разорвал конверт, пробежал письмо глазами.
— Ну, вот, — сказал он, передавая листок Вуколу, — пишут, что ты допущен держать экзамен экстерном! Поезжай как можно скорее — дней через пять! Отлично, дружище! — вскричал Кирилл, ударив друга по плечу, — увидишь Петербург, войдешь в студенческую среду!.. Оперу услышишь, в консерваторию поступишь! Здорово, брат! Там жизнь — кипит, не то, что здесь! Итак — едешь?
— Еду! — хмуро сказал Вукол и глубоко перевел дух: ему жаль было так внезапно расставаться с Александрой Михайловной.
— Однако как это неожиданно вышло! Ну что ж! Ведь и вы туда же едете? Значит, мы почти не расстаемся!.. А вы, Александра Михайловна?
— Я — в деревню… ребятишек учить.
— Ничего, ничего! — радовался за всех Кирилл. — Гора с горой не сходится, а человек с человеком — обязательно!
Внезапная перемена общей судьбы всей компании волновала всех. Долго спорили о самом призрачном из городов — о Петербурге.
Уходя, Вукол обещал, собравшись в дорогу, зайти перед отъездом. Ему страстно хотелось, чтобы Сашенька вышла на крыльцо проводить его. Он даже невольно остановился на крыльце в безнадежном ожидании, что она выйдет. Но Сашенька не вышла.
Он долго стоял и смотрел в мутную августовскую ночь. Не было ни одной звезды. Влажный ветер шелестел начинавшими желтеть листьями старых акаций палисадника.
IXКогда Вовка, блистательно перейдя на второй курс института, приехал в Кандалы на все лето, одетый в форму из рыжего толстого сукна, родители не могли на него наглядеться: был он веселый хохотун с басистым, звучным голосом, ростом немного ниже Вукола, зато плечистее и плотнее, ровный весь, крепыш, во многом отличавшийся от брата. У того лоб высокий, а у этого квадратный, со звездой на самой его середине, голова острижена бобриком, шире Вуколовой, с крутым затылком — упрямой казалась такая голова.
Вовка любил физику и математику, о которых говорил с восхищением. Заинтересовался изобретательскими опытами отца и Челяка. Рассматривал модели летающей машины, хохотал, дивясь остроумной простоте их, но советовал все-таки бросить как безнадежное дело, вследствие полного отсутствия у изобретателей научных знаний. Говорил, что в области технических изобретений на очереди самокатка, а потом из этого же принципа недалеко будет и до летающих машин. С любовью говорил о легендарном Икаре, о Леонардо да Винчи, о Фультоне и Эдиссоне, изображая их в лицах, как будто эти великие люди были ею ближайшими друзьями. Такой еще мальчишка, а уже много знал самоучкой по части таких наук, которых в институте не проходили. Говорил, что, познакомившись с милой метеорологией, безумно влюбился в нее и всегда будет ее любить. Марья Матвеевна спросила: «А сколько ей лет?» — «Тысяча!» — захохотав, ответил Вовка. Рассказывал о своем ученье: институт, закрытый в губернском городе, перевели в уездный маленький городишко на берегу Волги, много меньше села Кандалов, вдали от железной дороги, лишенный в зимнее время всякого общения с миром. Воспитанники живут не на частных квартирах, а в общежитии при институте. Учебное заведение возглавляет прежний директор, с тою разницей, что в новой обстановке совсем изменился: сделался добрым и обходительным, как бы желая загладить прежнее. Наоборот, учитель истории — чуть ли не единственный порядочный человек из учителей старого института, изменился в обратную сторону — стал обращаться с воспитанниками с нескрываемым отчуждением. Причину этих странностей Вова не мог объяснить ничем, кроме торжества идей директора и потери учителем веры в лучшее будущее, в котором Вова не сомневался. Он твердо решил идти в народные учителя не с революционной пропагандой, но с целью создать в крестьянстве просвещенное поколение. Едва понюхав науки, производил впечатление упорного, усидчивого книгоеда, что в особенности радовало Елизара в связи с веселым и бодрым его характером. Юноша не важничал скороспелой своей ученостью, много в нем было юношеского простодушия, но на замысловатые вопросы таких знатоков жизни, как Елизар и Амос, умел отвечать дельно, обнаруживая множество научных сведений, начиная с астрономии и кончая механикой. Видно было, что не институт сделал Вовку столь просвещенным, а собственное желание.
— Таких бы побольше в деревню! — восклицали Елизар и Амос. — Нуждается теперь она в знающих, дельных людях, а не только в говорунах!
Мать Вовы, безграмотная Марья Матвеевна, годами слушая рассуждения мужа и сыновей, давно уже усвоила многое из слышанного.
В свою очередь Вовка, живя в Кандалах, много узнал от своих собеседников о деревенской жизни. Село с каждым годом беднело и уже не было таким людным, как прежде, — многие поуходили в город от безземелья и притеснения начальства: даже мировой судья — старый крепостник — пристрастно ненавидел крестьян. Это был судья неправедный, враг, у которого нечего было искать защиты и правды.
И деревня искала их у своих советчиков, какими были исстари Елизар и Челяк. Прошел еще слух про фельдшера Василия Солдатова: около него, слышь, образовался какой-то кружок деревенской молодежи, называвшихся «трезвенниками», проповедовавшими полную трезвость, но от их трезвости подозрительно попахивало: больно что-то часто к фельдшеру собирались для трезвенных разговоров, так что даже до урядника в Кандалах слух об этом дошел, а урядник кандалинский, исполняя секретное предписание станового, по праздникам рыскал на коне по селу, запрещая петь песни какие бы то ни было. Не понимали мужики, почему запрещается им у себя дома песни петь? Почему требуется такое всенародное молчание? «Боятся запрещенных песен!» — объяснил Челяк и поступил иначе, чем «трезвенники»: открыл в передней половине своего шатрового дома пивную с бесплатным чтением газет, где не столько пили, сколько публично собирались для чтения и разговоров: вроде клуба что-то такое получилось.
Рассказывая об этом Вове, содержатель «пивной» хитро подмигивал, передавая ему заграничной печати брошюрки, напечатанные на тончайшей, но крепкой бумаге. Откуда он их получал? Челяк смеялся: очень просто — по почте, на имя несуществующего крестьянина Белоусова, а уж как попадал пакет в его руки — умалчивал. Эти брошюрки и Вова читал с большим интересом. Видно, кто-то из города присылал их. А кому же было это сделать, кроме Кирилла и Вукола?
В конце лета, перед самым отъездом Вовы, пришло письмо от Вукола с извещением, что проездом в Петербург завернет побывать у родителей. Намерение поступить в университет всех обрадовало — радовались за Вукола, что прекращает он работу в хоре.
Елизар не ждал от сыновей какой-либо материальной помощи: много ли им со старухой надо — перебивался кустарной работой, зато для «души» имел много забот: сельские общественные дела. Народ открыто противодействовал попам, земскому начальнику, крепостнику-судье, которые тоже открыто вредили мужикам. Борьба эта захватывала. Глядя на нее, волновался и горел юный ученый — Вова Буслаев. Неожиданно произошел в Кандалах такой случай: шел по селу серединой дороги судья — в соломенной шляпе на длинных волосах, с длинной седой бородой, в долгополой крылатке, — мужикам казался он на попа похож, либо на огородное чучело. На пыльной дороге играли маленькие дети. Трехлетняя девочка испугалась его и, бросив в судью горсть пыли, засеменила домой. Судья возмутился таким неуважением к нему и побежал преследовать ее. Девочка вбежала в родную избу, судья за ней и настиг обидчицу в чулане. Пыхтя и отдуваясь, ворча что-то, прошел через всю избу на глазах остолбеневшей семьи, кричал и стучал палкой. Когда мать подняла свою дочь на руки, девочка на руках у нее в странных конвульсиях умерла — от страха.
Никто не привлек судью к ответу, никто не наказал его. Село было запугано. Урядник бил мужиков нагайкой по лицу и одному вышиб вон глаз. Никто не сопротивлялся: больше всего боялись крестьяне обвинения их в «сопротивлении властям», зная, что за этим последует «усмирение». Слова «бунт на коленях» сделались всем известной поговоркой. В таком общем страхе застал Вова свое родное село — бывших белопашцев, государственных крестьян, никогда не знавших крепостного права, своевольных волжан, бывших богачей, не ломавших шапки ни перед кем. Теперь это были разоренные, безземельные бедняки, запуганные, приниженные, чувствовавшие свое бессилие перед обилием свирепого, бряцавшего оружием начальства, в свою очередь боявшегося крестьян, начинавших озлобляться.