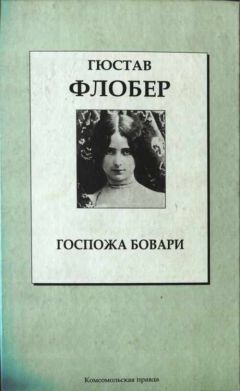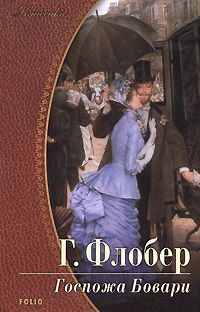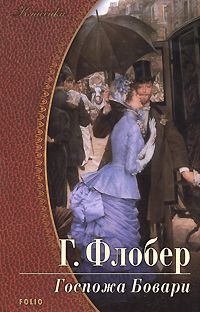Оба разгорячились, раскраснелись, говорили зараз, не слушая друг друга. Бурнизьен был возмущен такою дерзостью, Гомэ изумлен такою глупостью; они были уже на шаг от обмена оскорблениями, когда опять внезапно появился Шарль. Его влекло сюда словно какое-то притяжение, и он ежеминутно поднимался по лестнице.
Он становился против нее, чтобы лучше ее видеть, и забывался в этом созерцании, которое уже не было мучительно, так как было слишком глубоко. Он припоминал рассказы о летаргическом сне, о чудесах магнетизма и убеждал себя, что стоит ему пожелать сильно — и, быть может, ему удастся вернуть ее к жизни. Раз даже он наклонился над нею и тихо окликнул: «Эмма! Эмма!» Его дыхание, вырвавшись с силою, заколебало пламя свечей у стены.
На рассвете приехала его мать; Шарль, целуя ее, опять разрыдался. Она, как и аптекарь, позволила себе несколько замечаний по поводу расходов на похороны. Он так рассердился, что она умолкла, и даже поручил ей самой отправиться немедленно в город, чтобы закупить все необходимое.
Все послеобеденное время Шарль оставался один; Берту отвели к госпоже Гомэ; Фелисите сидела в комнате наверху с теткой Лефрансуа.
Вечером он принимал посетителей. Вставал, пожимал руки, не будучи в состоянии сказать ни слова; новопришедший присаживался к другим гостям, составившим широкий полукруг перед камином. С опущенными головами и положив ногу на ногу, они покачивали ногой и время от времени испускали глубокие вздохи; каждый скучал непомерно, и все старались пересидеть друг друга.
Когда в девять часов опять появился Гомэ (только его и видели на площади за последние два дня), он был нагружен запасом камфоры, бензоя и ароматических трав. Он принес также склянку хлора для уничтожения миазмов. В это время Фелисите, тетка Лефрансуа и старуха Бовари вертелись вокруг Эммы, кончая ее одевать; они покрыли ее длинным жестким тюлем вплоть до атласных башмаков.
Фелисите плакала:
— Ах, бедная моя барыня! Бедная барыня!
— Взгляните на нее, — говорила трактирщица, — какая она все еще красотка! Подумаешь, вот сейчас встанет!
Они наклонились, чтобы надеть на мертвую венок: пришлось слегка приподнять голову; и вдруг изо рта хлынул — словно покойницу вырвало — поток черной жидкости.
— Ах, боже мой! Платье-то, платье берегите! — воскликнула госпожа Лефрансуа. — Да помогите же нам, — сказала она аптекарю, — или вы уже струсили?
— Я струсил? — возразил тот, пожав плечами. — Я и не то еще видывал в больнице Отель-Дье, когда изучал фармацевтику! Мы в анатомическом театре во время вскрытий, бывало, варили пунш! Смерть не пугает философа, и даже — впрочем, я не раз говорил это — я намерен завещать свой труп клиникам, чтобы он мог послужить науке.
Священник, придя, осведомился, как чувствует себя господин Бовари, и, выслушав ответ аптекаря, сказал:
— Утрата, понимаете, еще слишком свежа!
Гомэ, к слову, поздравил его, что он не подвержен, как другие люди, опасности потерять подругу жизни; отсюда вспыхнул спор о безбрачии духовенства.
— Неестественно, — говорил аптекарь, — чтобы человек жил без женщины! Случались даже преступления…
— Чертова кукла! — воскликнул священник. — Да мыслимо ли, чтобы человек, состоящий в браке, мог, например, сохранить тайну исповеди?
Гомэ напал на исповедь. Бурнизьен защищал ее; он распространился о тех случаях, когда она чудесно перерождает человека. Рассказал несколько анекдотов о ворах, превратившихся в честных людей. У многих военных, когда они приближались к исповедальне, словно чешуя спадала с глаз. Во Фрейбурге был священник…
Собеседник его спал. Так как в тяжелой атмосфере комнаты было слишком душно, он распахнул окно, что разбудило аптекаря.
— Не угодно ли? — сказал он ему, подавая табакерку. — Возьмите-ка щепоточку, это освежает.
Где-то вдалеке слышался протяжный лай.
— Слышите, собака воет? — спросил аптекарь.
— Говорят, они чуют покойников, — ответил священник. — Так же вот и пчелы: они улетают из ульев, если в доме покойник.
Гомэ не обличил суеверия этих предрассудков, так как опять заснул.
Бурнизьен, более крепкий, еще некоторое время беззвучно шевелил губами, потом, сам того не чувствуя, опустил подбородок, выронил из рук толстую черную книгу и захрапел.
Они сидели друг против друга, выпятив живот, с обрюзглыми, насупленными лицами, встретясь наконец после стольких несогласий в общей человеческой слабости, и были недвижны, как труп возле них, который, казалось, тоже спит.
Шарль, войдя, не разбудил их. То было в последний раз. Он пришел проститься с нею.
Ароматические травы еще курились; и клубы голубого дыма сливались у окна с туманом, проникавшим в комнату. На небе мерцало несколько звезд, ночь была тихая.
Воск со свечей крупными слезами падал на простыни постели. Шарль смотрел на свечи, утомляя себе глаза блеском желтого пламени.
На атласном платье, белом, как лунное сияние, трепетали переливы света. Эмма исчезала под ними; и ему казалось, что, выходя из своего тела, она смутно расплывается в окружающем мире, сливая себя с тишиной ночи, с дуновением ветерка, с влажными испарениями земли.
Потом вдруг он видел ее перед собой, как живую, то в саду Тоста на скамейке, у терновой изгороди, то на улицах Руана, то на пороге их дома, то на дворе фермы Берто. В ушах его раздавался смех парней, что плясали тогда под яблонями. Комната была полна ароматом ее волос, и платье ее шелестело у него под рукой, словно потрескивали искры. Оно было все то же!
Долго вспоминались ему все мгновения минувшего счастья, ее позы, движение, звук ее голоса. Едва стихал один приступ отчаяния, начинался другой, и так все время длилась их неисчерпаемая смена, как волны разбушевавшегося моря.
Он ощутил смешанное со страхом любопытство: тихо кончиками пальцев приподнял, дрожа, вуаль.
Крик ужаса вырвался из его груди и разбудил обоих спящих. Они увели его вниз, в гостиную.
Вслед затем пришла Фелисите и сказала, что он просит прядь волос покойницы.
— Отрежьте! — ответил аптекарь.
Она не осмеливалась, и Гомэ подошел сам с ножницами в руке. Он так дрожал, что в нескольких местах на виске проколол кожу. Наконец, подавляя волнение, резнул два-три раза наугад и оставил белые просветы в этих прекрасных густых черных волосах.
Аптекарь и священник снова погрузились в свои занятия, время от времени задремывая и взаимно упрекая в этом друг друга при каждом новом пробуждении. Тогда Бурнизьен кропил в комнате святою водой, а Гомэ посыпал пол легким слоем хлора.
Фелисите позаботилась оставить для них на комоде бутылку водки, сыр и большой сдобный хлеб. Гомэ, выбившийся из сил к четырем часам утра, вздохнул:
— А знаете ли, я был бы не прочь подкрепиться!
Священника не нужно было уговаривать: он немедленно пошел отслужить краткую мессу, вскоре вернулся, и оба закусили и выпили, чуть-чуть посмеиваясь, сами не зная чему, — поддаваясь той безотчетной веселости, какая овладевает людьми после обрядов печали. И за последней рюмкой священник сказал аптекарю, похлопывая его по плечу:
— Уж мы с вами наконец-таки столкуемся!
Внизу, в сенях, они встретили пришедших рабочих. Часа два потом Шарль должен был выносить пытку молотка, стучавшего по доскам. Потом ее снесли вниз в дубовом гробу, который вставили затем в два других; но так как свинцовый был слишком просторен, пришлось законопатить промежутки шерстью, вынутой из тюфяка. Наконец, когда все три крышки были пригнаны, заколочены и запаяны, гроб поставили перед растворенными настежь дверями. Дом был открыт, и ионвильцы начали стекаться на вынос тела.
Приехал старик Руо. На площади, завидев над дверьми дома черное сукно, он лишился чувств.
Он получил письмо аптекаря полутора сутками позже события; щадя его чувствительность, Гомэ составил извещение так, что нельзя было понять, к чему готовиться.
В первую минуту старик упал, словно пораженный апоплексическим ударом. Потом истолковал письмо в том смысле, что она не умерла, но что это может случиться. Тогда он надел блузу, схватил шляпу, нацепил на башмак шпору и понесся во весь опор; и всю долгую дорогу старик Руо, еле дыша, терзался тоской и страхом. Раз даже ему пришлось слезть с лошади: в глазах у него потемнело, за ним слышались какие-то голоса, ему казалось, что он сходит с ума.
Занялась заря. Он увидел трех черных кур, спавших на ветке, и задрожал от испуга при этом предзнаменовании. Тотчас дал он обет Пресвятой Деве пожертвовать на Церковь три облачения и пройти босиком от кладбища Берто до Вассонвильской часовни.
Он въехал в Маромму, клича людей с постоялого двора, высадил дверь плечом, подскочил к мешку с овсом, вылил в колоду бутылку сладкого сидра и вскочил снова на свою лошадку, которая поскакала во всю прыть.