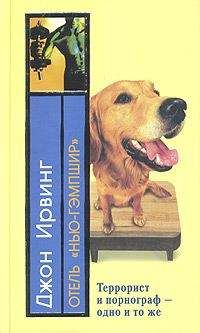— и совершенно не хочу зависеть там от него!
Но Фрэнк, похоже, просто расцвел в предвкушении переезда в Вену. Без сомнения, он был ободрен тем, что ему предоставили второй шанс с Грустецом, но, казалось, по-настоящему он увлекся изучением Вены. После обеда он читал нам вслух избранные отрывки, которые называл «изюминками» венской истории; Ронда Рей и Урики слушали тоже, и это было странно, они ведь знали, что никуда с нами не поедут, а их будущее у Фрица было неопределенным.
После двух месяцев исторических уроков Фрэнк устроил нам устный экзамен по венским персоналиям времен самоубийства кронпринца в Майерлинге (о котором прочел нам во всех деталях, растрогав своим чтением Ронду до слез). Фрэнни сказала, что принц Рудольф стал героем Фрэнка «из-за его нарядов». В комнате у Фрэнка висели портреты Рудольфа: один — в охотничьем костюме (узколицый молодой человек с огромными усами, одетый в меха и курящий тонкую, как палец, сигарету), другой — в военной форме, с орденом Золотого руна, челом безмятежным, как у младенца, и бородой острой, как наконечник копья.
— Хорошо, Фрэнни, — начал Фрэнк, — этот вопрос для тебя. Он был гениальным композитором, возможно, лучшим в мире органистом — но провинциалом, совершенно терялся в имперской столице, и у него была глупая привычка влюбляться в молоденьких девушек.
— Почему же это глупая привычка? — спросил я.
— Замолчи, — сказал Фрэнк. — Это глупо, и это вопрос для Фрэнни.
— Антон Брукнер, — сказала Фрэнни. — Ладно, все нормально, он действительно был глупцом.
— Большим, — сказала Лилли.
— Твоя очередь, Лилли, — сказал Фрэнк. — Кто такая «фламандская пастушка»?
— Брось, — сказала Лилли. — Слишком просто. Спроси об этом у Эгга.
— Для Эгга это слишком сложно, — возразила Фрэнни.
— Что такое? — спросил Эгг.
— Принцесса Стефани, — устало сказала Лилли, — дочь короля Бельгии и жена Рудольфа.
— Теперь папа, — сказал Фрэнк.
— О боже, — сказала Фрэнни, потому что отец в истории был так же силен, как и в немецком.
— Чья музыка была настолько популярна и любима, что даже крестьяне копировали бороду композитора? — спросил Фрэнк.
— Брамс? — попробовал угадать отец, и мы все застонали.
— У Брамса была борода, как у крестьянина, — сказал Фрэнк. — А чью бороду копировали крестьяне?
— Штрауса! — хором выкрикнули мы с Лилли.
— Занудство, — сказала Фрэнни. — А теперь я задам вопрос Фрэнку.
— Валяй, — сказал Фрэнк, плотно зажмурив глаза и сморщив лицо.
— Кто такая Жанетт Хегер? — спросила Фрэнни.
— Это была «сердечная подружка» Шницлера, — ответил Фрэнк, покраснев.
— Что такое «сердечная подружка», Фрэнк? — спросила Фрэнни, и Ронда Рей засмеялась.
— Сама знаешь, — сказал Фрэнк, продолжая краснеть.
— И сколько любовных актов произошло между Шницлером и его «сердечной подружкой» между тысяча восемьсот восемьдесят восьмым и восемьдесят девятым годом? — спросила Фрэнни.
— Господи! — воскликнул Фрэнк. — Много! Я забыл!
— Четыреста шестьдесят четыре! — выкрикнул Макс Урик, который присутствовал на всех исторических чтениях и никогда не забывал ни одного факта.
Как и Ронда Рей, Макс никогда раньше не учился; для Макса и Ронды это было впервой, и они уделяли урокам Фрэнка больше внимания, чем кто-либо из нас.
— У меня есть другой вопрос для папы, — сказала Фрэнни. — Кто такая Мичи Каспар?
— Мичи Каспар? — переспросил отец. — Господи Исусе.
— Я знаю! — выкрикнула Ронда Рей. — Это была «сердечная подружка» Рудольфа, он провел с ней ночь, перед тем как покончить самоубийством с Марией Вечерой в Майерлинге.
У Ронды, похоже, было специальное место в памяти и в душе для «сердечных подружек».
— Я одна из них, правда? — спросила она меня, после того как Фрэнк прочел нам лекцию о жизни и творчестве Артура Шницлера.
— Ты самая сердечная, — сказал я ей.
— Фу! — сказала Ронда Рей.
— Где Фрейд жил не по средствам? — спросил Фрэнк, обращаясь к любому из нас, кто знал.
— Который Фрейд? — спросила Лилли, и все засмеялись.
— В Suhnhaus, — ответил Фрэнк на собственный вопрос. — Перевести? — спросил он. — В Доме искупления, — ответил он.
— Иди ты подальше, Фрэнк, — сказала Фрэнни.
— Раз секса не касается, значит она не знает, — сказал мне Фрэнк.
— Кто последним притрагивался к Шуберту? — спросил я Фрэнка.
Фрэнк с подозрением посмотрел на меня.
— Что ты имеешь в виду? — спросил он.
— То, что сказал, — ответил я. — Кто последним притрагивался к Шуберту?
Фрэнни рассмеялась; я поделился с ней этой историей и был уверен, что Фрэнк ничего не знает, потому что я вырвал эти страницы из его книжки. История была неприятная.
— Это что, какая-то шутка? — спросил Фрэнк.
По прошествии шестидесяти лет после смерти Шуберта бедный провинциал Антон Брукнер присутствовал при вскрытии его могилы. Были допущены только Брукнер и несколько ученых. Кто-то из мэрии произнес очень длинную речь о прахе Шуберта. Череп Шуберта был сфотографирован; секретарь, тщательно протоколировавший результаты обследования, отметил, что останки Шуберта имели оранжевый оттенок и что его зубы были в лучшем состоянии, чем у Бетховена (чьи останки эксгумировались с той же целью раньше). Определили размеры мозговой полости Шуберта.
После почти двухчасовых «научных» исследований Брукнер не мог больше сдерживаться. Он схватил голову Шуберта, прижал ее к груди и держал так, пока его не попросили с ней расстаться. Так что последним к Шуберту притрагивался Брукнер. Это была история в духе Фрэнка, и он был в ярости оттого, что не знал ее.
— Снова Брукнер, — спокойно сказала мать, и мы с Фрэнни искренне поразились: день ото дня мы привыкли думать, что мать ничего не знает, а тут оказалось, что она знает все. Что касается Вены, то мы подозревали, что мать тайно учится сама, полагая, видимо, что отец к этой поездке не подготовлен.
— Какие пустяки! — воскликнул Фрэнк, когда мы рассказали ему эту историю. — Ну, честно, пустяки ведь.
— Вся история состоит из пустяков, — сказал отец, снова напомнив нам Айову Боба.
Но Фрэнк сам был обычно кладезем всяких пустяков, по крайней мере в отношении Вены, и он ненавидел, когда его превосходили. Его комната была забита рисунками солдат в их обмундировании: гусаров в облегающих розовых лосинах и офицеров полка Тирольских стрелков в темно-зеленых мундирах. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Австрия получила приз за самую красивую военную форму (артиллерийскую), и ничего удивительного, что венский fin de siécle так привлекал Фрэнка. Беспокоило лишь то, что fin de siécle был единственным периодом, который Фрэнк по-настоящему выучил и которому учил нас. Все остальное не вызывало у него такого интереса.
— Бога ради, да Вена будет совершенно не похожа на «Майерлинг» [20], — шептала мне Фрэнни, когда я выжимал штангу. — Сейчас-то уж точно…
— Кто был мастером песни как художественной формы? — спросил я ее. — У него была борода с проплешинами, потому что он все