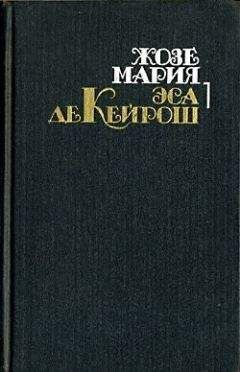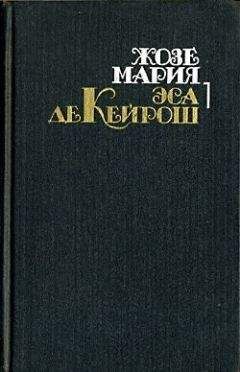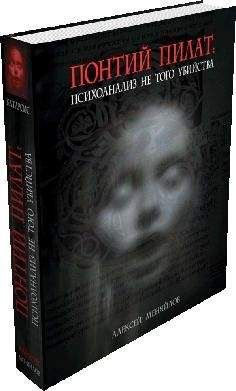— Если бы тетечка окочурилась, я бы устроил шикарную квартирку для моей малютки!
Она шепнула, обдав меня всего черным пламенем своего взора:
— Ну да! Если у сеньора заведутся деньги, он меня сразу забудет!
Весь дрожа, я опустился на пол у ее ног, припал грудью к ее коленям, отдавая себя на ее милость, как животное, покорно идущее под нож мясника; она развела покрытые шалью руки и милосердно приняла меня в свои объятия.
Теперь каждый вечер (пока Элеутерио сидел в клубе на Новой улице Кармелитов и играл в манилью) я упивался радостями жизни в спальне Аделии. Я был избранником ее сердца, мои ночные туфли водворились у нее под кроватью. В половине десятого, с распущенными волосами, в кое-как накинутом фланелевом капоте и туфлях на босу ногу, она провожала меня до крыльца, даря мне на каждой ступеньке долгий прощальный поцелуй.
— Спокойной ночи, Делинья!
— Закутайся получше, милый!
Я не спеша брел домой, то и дело возвращаясь мыслями к своему счастью.
Так, в дремотной истоме, прошло лето.
Первые порывы осеннего ветра умчали прочь ласточек и листву c деревьев; в ту осень жизнь моя вдруг стала легче, привольней. Мне сшили фрак; я обновил его, отправившись с разрешения тетушки в Сан-Карлос слушать «Полиевкта» — оперу Доницетти, рекомендованную доктором Маргариде как «полную религиозного чувства и содержащую возвышенное поучение». Мы отправились с ним вдвоем; я был завит и в белых перчатках. Наутро, за завтраком, я излагал тетушке сюжет оперы, рассказывал о низвергнутых идолах, священных песнопениях, перечислял знатных дам, занимавших ложи, описывал красивое бархатное платье королевы.
— Да! Знаете, кто подошел ко мне? Миллионер барон де Алконшел, дядя того молодого человека, моего соученика. Он пожал мне руку и довольно долго беседовал в фойе… Он был весьма учтив.
Учтивость барона очень понравилась тетушке.
Затем с глубоким сокрушением, точно отчаявшийся блюститель нравов, я посетовал на нескромность некоей сеньоры: она сидела в ложе, декольтированная, с обнаженными руками и грудью, выставив напоказ нечестивую, ослепительную наготу праведникам в ущерб и церкви в поношенье.
— Иисусе, какой срам! Поверите ли, тетечка, меня чуть не стошнило!
Это тоже понравилось тетушке.
Несколько дней спустя, после кофе, когда я в домашних туфлях направлялся в молельню, чтобы сотворить краткую молитву перед крестными ранами нашего золотого Христа, тетя Патросинио, уже впадавшая в дремоту, проговорила из-под лиловой косынки:
— Хорошо. Можешь сегодня снова пойти в Сан-Карлос… И вообще не стесняйся, я тебе разрешаю слушать музыку, когда захочешь… Ты уже взрослый… и, если не ошибаюсь, человек с правилами. Приходи домой в одиннадцать, даже в половине двенадцатого… Но в полночь дверь должна быть заперта и все готово для нашей вечерней молитвы.
Она не видела, как в глазах моих заблистало торжество. Но я елейно просюсюкал, исходя набожным усердием:
— Уж вечернюю молитву, тетечка, мою любимую вечернюю молитву, я не променяю ни на какие развлечения… Пусть хоть сам король позовет меня во дворец на чашку чая!
Вне себя от восторга, я побежал надевать фрак. С этого дня началась долгожданная свобода! Я добыл ее ценой упорных усилий, пресмыкаясь перед тетечкой и бия себя в грудь перед распятием. И как кстати подоспело освобождение! Элеутерио Серра уехал в Париж за новой партией товаров, и Аделия осталась одна — ничем не связанная, прекрасная и пылкая как никогда!
Да, конечно, я завоевал тетушкино доверие аккуратностью, благоразумием, благочестием! Тетя Патросинио так и сказала своему духовнику, отцу Казимиро: она решилась продлить мои вечерние развлечения, лишь убедившись, что я «верую в бога и не гоняюсь за юбками».
По мнению тетушки Патросинио, все, что люди делают за дверями церкви, сводится к двум видам грехопадений: «бегать за мужчинами» и «гоняться за юбками»; и оба этих сладких зова природы были ей равно ненавистны!
Тетушка осталась девицей и к старости высохла, как прошлогодняя лоза. Губы ее поблекли, не узнав иных поцелуев, кроме отеческого прикосновения седых усов командора Г. Годиньо; беспрестанно бормоча у ног нагого Христа молитвы из «Часов благочестных» — эти исступленные призывы к божественной любви, — тетушка постепенно прониклась завистливой и едкой враждой ко всем радостям любви человеческой. Она не довольствовалась простым порицанием любви как чувства низшего: нет, сеньора дона Патросинио дас Невес видела в ней нечто гнусное и брезгливо морщилась при одном упоминании слова «любовь». Благородный, истинно влюбленный юноша был в ее глазах развратником! Когда она узнавала, что какая-нибудь из знакомых дам родила, она сплевывала и шипела: «Какая гадость!» Вероятно, сама природа, создавшая два пола, казалась ей непристойной.
Тетушка была богата и любила комфорт, но не соглашалась взять в дом лакея, чтобы в кухне, в коридорах не было соприкосновения «юбок с брюками». Хотя голова Висенсии уже седела, хотя кухарка была старухой и притом заикалась, хотя третья служанка, Эузебия, давно потеряла все зубы, дона Патросинио постоянно обыскивала их сундуки и даже рылась в соломенных тюфяках: нет ли там, чего доброго, фотографии мужчины, письма мужчины, следа мужчины, запаха мужчины!
Все невинные удовольствия молодежи: поездка на осликах в женском обществе, бережно поднесенный даме бутон розы в капельках росы, чинный контрданс в светлый день пасхи — все это казалось тете Патросинио греховным, все это она определяла одним словом «разврат».
Почтенные друзья дома не осмеливались в ее присутствии заговорить о какой-нибудь скандальной истории, попавшей в газеты, если в ней хотя бы отдаленно чувствовалась любовная подоплека, — это оскорбляло мою тетю, как неприличная нагота.
— Падре Пиньейро! — крикнула она, засверкав глазами, злополучному священнику, когда тот однажды упомянул о служанке-француженке, бросившей своего младенца в отхожее место. — Падре Пиньейро! Пощадите мои уши… Какая грязь! Я не об уборной говорю!
И все-таки она сама поминутно заводила речь о греховных заблуждениях плоти — чтобы еще раз с ненавистью их заклеймить: при этом она швыряла на стол свой клубок шерсти и злобно вонзала в него спицы, словно желая проткнуть и навеки остудить беспокойное, необъятное человеческое сердце. Чуть ли не ежедневно, скрежеща зубами, она повторяла: если человек, который живет в ее доме и ест ее хлеб, начнет «бегать за юбками» и ударится в разврат — пусть это будет ее кровный родственник, — она вышвырнет его на улицу, как шелудивого пса!
Поэтому я был до чрезвычайности осторожен. Опасаясь, как бы от моей одежды или волос не повеяло невзначай сладостным ароматом Аделии, я всегда держал в кармане мелкие кусочки ладана и, прежде чем вступить на наше унылое крыльцо, незаметно пробирался в конюшню, бросал в пустую кадушку кусочек священной смолы и поджигал; затем тщательно окуривал в очистительном дыму полы куртки и растительность на лице… После этого я входил в дом и с удовлетворением наблюдал, как тетушка блаженно принюхивается.
— Иисусе, откуда так приятно пахнет церковью?
Потупясь, я шептал или, лучше сказать, вздыхал:
— Это от меня, тетечка…
Чтобы она окончательно убедилась в моем равнодушии к «юбкам», я подбросил в коридоре запечатанное письмо, якобы оброненное мною по недосмотру; я не сомневался, что богобоязненная дона Патросинио, моя сеньора и тетушка, распечатает его и прочтет с жадным любопытством. И она распечатала — и осталась довольна. Письмо было адресовано в Аррайолос, бывшему соученику, написано самым красивым почерком и содержало мудрые и благочестивые мысли:
«Должен тебе сообщить, что я прекратил всякое знакомство с Симоэнсом с философского факультета: он посмел пригласить меня в непотребный дом. Я не прощаю подобных оскорблений. Ты, конечно, помнишь, что и в Коимбре разврат был мне глубоко противен. Лишь последний осел согласится ради преходящего удовольствия — дунь, плюнь — и нет — гореть во веки веков (аминь!) в адском пламени (господи, спаси и помилуй!). На подобную глупость никогда не пойдет твой верный заветам Христовым
Рапозо».
Тетушка прочла и обрадовалась. Теперь, стоило мне только захотеть, я надевал фрак, говорил, что иду слушать «Норму», почтительно целовал тетины костлявые пальцы и бежал на Калдас, в спальню Аделии, где, позабыв все на свете, вкушал блаженство греха. В неярком свете керосиновой лампы, проникавшем из гостиной сквозь застекленную дверь, батистовые занавески и нижние юбки сияли облачной, небесной белизной; пудра благоухала слаще райских лилий; я находился в раю, я был блаженным Теодорико; по голым плечам моей возлюбленной скользили ее черные косы, густые и толстые, как хвост боевого скакуна.