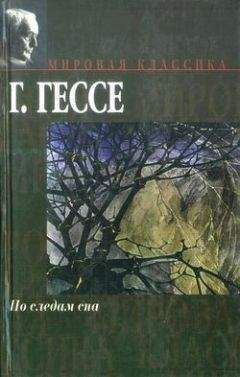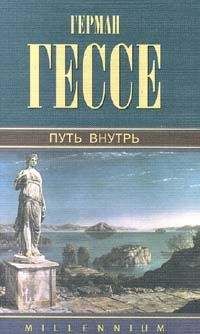Рядом с несколькими похожими на тис и кипарис деревьями с примечательными и порой причудливыми силуэтами одиноко и, может быть, немного меланхолично, но сама мощь и здоровье, стоит баобаб, погруженный, как в сон, в свою безупречную симметрию, и в знак того, что его одиночество ему нипочем, держит на своих верхних ветках несколько тяжелых массивных плодов. К этим раритетам, поставленным на лужайке нарочно поодиночке, что как бы призывает заметить их и восхититься, добавлено и несколько не таких уж, правда, редких, но преображенных садоводческим искусством тоже некоторым образом сознающих свою интересность и немного лишенных невинности, манерно напустивших на себя задумчивость деревьев, прежде всего плакучих ив и плакучих берез, изящных длинноволосых принцесс сентиментальной эпохи, среди них и гротескная плакучая ель, ствол которой со всеми ветвями на определенной высоте сгибается вниз и вновь устремляется к корням. Благодаря этому противоестественному направлению роста образуется плотный навес, некая хижина или пещера из живой ели, куда человек может скрыться и поселиться, словно он нимфа этого странного дерева.
К самым красивым деревьям нашего драгоценного сада относятся несколько великолепных старых кедров, красивейший из них касается своими верхними ветками кроны кряжистого дуба, самого старого дерева на этом угодье, он гораздо старше парка и дома. Есть и несколько благоденствующих манговых деревьев, устремленных больше вширь, чем ввысь, вероятно, их принуждают к этому сильные и холодные ветры. Для меня самое великолепное дерево во всем парке — не кто-то из аристократов-чужеземцев, а старый почтенный серебристый тополь огромного роста, разделяющийся невысоко над землей на два могучих ствола, каждый из которых мог бы сам по себе быть гордостью парка. Он еще весь в листве, краски которой, в зависимости от игры света и ветра, переливаются от серебристо-серого цвета через богатую гамму коричневатых, желтоватых, даже розоватых тонов к тяжелому темно-зеленому, но всегда сохраняют что-то металлическое, какую-то сухую жесткость. Когда в его исполинской двойной кроне играет сильный ветер, а небо, как то здесь бывает в эти первые дни ноября, чаще по-летнему влажно-синее или затемнено облаками, зрелище получается царское. Это почтенное дерево было бы достойно такого поэта, как Рильке, и такого художника, как Коро.
Образец и стилистический идеал этого парка — английский, не французский. Задумано было создать в миниатюре как бы естественно-изначальный ландшафт, и местами этот обман почти удался. Но осторожная оглядка на архитектуру, осмотрительное обращение с территорией и ее скатом к озеру уже ясно показывают, что все дело тут как раз не в природе, не в диком состоянии растений, а в культуре, в духе, в воле и дисциплине. И мне очень нравится, что все это видно по парку и сегодня. Он был бы, возможно, красивее, будь он немножко предоставлен себе, немножко запущен и заброшен; тогда дорожки заросли бы травой, а щели каменных лестниц и обрамлений — папоротником, лужайка замшела бы, декоративные постройки обвалились, все говорило бы о стремлении природы к размножению без разбора и гибели без разбора, в этот благородный прекрасный мир позволено было бы войти одичанию и мысли о смерти, кругом лежал бы валежник, по трупам и пням умерших деревьев расползся бы мох. Но ничего подобного нет здесь и в помине. Сильный, тот сильный, точно и упрямо рассчитывающий все наперед дух, та воля к культуре когда-то задумали и посадили этот парк, правят им и сегодня, берегут и сохраняют его, не отдают ни пяди одичанию, разнузданности, смерти. Не вылезает ни трава на дорожках, ни мох на лужайке, дубу не разрешается очень уж залезать своей кроной в соседний кедр, а шпалерам, карликовым и плакучим деревьям забывать дисциплину, увиливать от закона, по которому они вычерчены, острижены и согнуты. И там, где какое-то дерево упало и убыло, из-за болезни ли, старости, бури или тяжести снега, нет хаоса молодой поросли, а вместо упавшего стоит маленькое, худенькое, складненькое, с двумя-тремя веточками и несколькими листочками, юное, вновь посаженное деревце на круглом щите, послушно подчиняясь порядку и опираясь на опрятный, крепкий кол, который поддерживает и защищает его!
Так творение аристократической культуры сохранилось здесь в совсем иную эпоху, и воля его зачинщика, того последнего помещика, что подарил свою собственность благотворительному заведению, соблюдается и правит поныне. Ей повинуются и высокий дуб, и кедр, и тощенький юный саженец с подпоркой, ей повинуется силуэт каждой группы деревьев, ее чтит и увековечивает почтенный классический каменный памятник на последней террасе сада, отделяющей последнюю большую лужайку от прибрежных камышей и воды. И единственная видимая рана, которую жестокая эпоха нанесла этому прекрасному микрокосму, скоро исчезнет и заживет. Во время последней войны одну из верхних лужаек пришлось распахать и превратить в огород. Но эта пустошь опять уже ждет бороны и грабель, чтобы вытравить залетные сорняки и опять быть засеянной короткой густой травой.
Вот я уже кое-что и порассказал о своем прекрасном парке, и все-таки забыл я больше, чем описал. Я остался в долгу перед кленами и каштанами, не воздав им хвалы, и не упомянул пышных толстоствольных глициний внутренних дворов, а еще до них до всех мне следовало вспомнить чудные вязы, прекраснейший из которых стоит совсем рядом с моим жильем, между виллой и главным зданием, он моложе, но выше того почтенного дуба. Этот вяз выходит из земли крепким и толстым, но с самого начала стремящимся к высоте и стройности стволом, который потом, после короткого энергичного разгона, как разлетающаяся струя воды, разбрызгивается, разбегается полчищем рвущихся к небу веток, стройный, веселый, светолюбивый — пока его радостное взмывание не утихает в высокой, прекрасносводчатой кроне.
Если в этих упорядоченных и ухоженных пределах нет места примитивному и дикому, то на границах искусственных насаждений оба мира повсюду сталкиваются друг с другом. Уже когда парк разбивался, его плавно спускавшиеся дорожки кончались в песке и болоте отлогого, заросшего камышом берега, а в дальнейшем соседство неукрощенной, предоставленной самой себе природы сказывалось и куда более ощутимым образом. Несколько десятилетий назад при проводке соединительных каналов между местными озерами уровень здешнего озера понизили на несколько метров, осушив тем самым широкую полосу прежнего края озера. На этой полосе, не зная, как с ней поступить, природе дали полную волю, и теперь здесь на протяжении нескольких миль разрастается отчасти еще болотистый лохматый и довольно уродливый лес, это выросшие из залетевших семян джунгли ольхи, берез, ветел, тополей и других деревьев, медленно превращающие бывшее песчаное дно в лесную почву. Там и сям показываются и дубки, хотя они не очень-то, кажется, хорошо чувствуют себя на этой земле. И я могу представить себе, что летом здесь цветут разные тростники, растет пушица и те высокие, перистые орхидеи, которые я знаю по болотистым лугам у Боденского озера. Убежище дают эти заросли и многим животным, здесь, кроме уток и других водоплавающих, гнездятся вальдшнепы, кроншнепы, цапли и бакланы, я видел стаю взлетающих лебедей, а позавчера из этого леска выскочили две косули и неторопливо, маленькими игривыми прыжками, пересекли одну из дальних лужаек нашего парка.
Все, что я здесь если не описал, то хоть обобщенно перечислил, внушительный ухоженный парк с первобытным леском на влажной целине, кажется просторной местностью, а это всего только ближайшая окрестность нашего дома. Когда я каких-нибудь четверть часа брожу в этой окрестности взад-вперед по дорожкам, она и впрямь некое единство, некий ограниченный маленький мир, которых нам, как, например, парка в большом городе, на какое-то время достаточно для радости и для замены остальной природы. На самом же деле все это — парк, садоводство, огороды и лесной пояс — только передний план и ступень, ведущие к чему-то гораздо большему и более единому. Если спуститься от дома по красивым дорожкам под высокими вязами, тополями, кедрами, мимо пышных конусов веллингтоний, чьи толстые, коричневые стволы так тепло укрыты шатром висящих гибких веток, мимо баобаба и скумпии, мимо плакучих ив и терновника к берегу, тогда только и окажешься перед настоящим и вечным пейзажем, полным не красивости, не занятности, а величия, перед широким, открытым, простым, огромным ландшафтом. За коричневатым, качающимся и пляшущим на ветру леском камышей вытягивается на много миль озеро небесного цвета при тихой погоде и темного, сине-зеленого, как лед глетчера, в бурю, а по ту сторону его (если та сторона не скрыта, как это часто бывает, серой и опаловой дымкой) низкие, продолговатые гряды Юры вычерчивают в небе, над этой словно бы плоской далью, свои спокойные, но энергичные линии. Со времен Боденского озера я ни разу не жил среди такого пейзажа, а с тех пор прошло почти тридцать пять лет. Простор озера и неба, запах воды и водорослей, качающиеся камыши, влажный береговой песок под ногами, надо мной облака в бескрайнем небе и несколько птиц — как я все это когда-то любил! С тех пор я, как-то не сознавая этого, всегда жил в местах, более близких к высокогорью, которым свойственна была твердость, четкая очерченность контуров, среди пейзажа, который, в отличие от здешнего, не состоял прежде всего из неба, воздуха, марева, ветра, движения. Сейчас мне не хочется пускаться в размышления и толкования, а то можно было бы славно пофантазировать по поводу этого возвращения из статического в динамический мир. Вот они снова здесь и заговаривают со мной на незабытом языке; эта безбрежность, это сходство с морем, влажность, этот блеск, эта смена тумана и ясности, эта изменчивость и переменчивость мира, где надо всем другим властвуют вода и небо. Я часто стою на берегу со шляпой в руке и ветром в волосах, меня овевают звуки и запахи молодых лет, меня настиг и смотрит на меня мир, настойчиво напоминающий мне прошлое, пристально оглядывающий меня, как отец вернувшегося из дальних странствий сына, но долгое мое отсутствие не предстает мне неверностью. Ведь прочное взирает на бренное всегда как бы с превосходством, то насмешливым, то терпеливым, и, видя, как меня, старика, пристально оглядывает и терпит, как посмеивается надо мной дух этой влажно-прохладной дали, я не чувствую себя униженным. Такова каждая новая встреча с землей и природой, по крайней мере для нашего брата, для нас, художников: сердце наше с готовностью и любовью устремляется навстречу стихийному и словно бы вечному, бьется в такт волнам, дышит с ветром, летит с облаками и птицами, наполняется благодарностью и любовью за красоту света, красок и звуков, сознает свою причастность к ним, свое родство с ними — и все-таки никогда не получает от вечной земли, от вечного неба иного ответа, чем вот этот спокойный, полунасмешливый взгляд большого на малое, старика на ребенка, прочного на бренное. И мы, в упрямстве ли или в смирении, в гордыне или в отчаянии, начинаем попирать немоту языком, вечное преходящим и смертным, и из чувства малости и бренности рождается столь же гордое, сколь и отчаянное чувство человека, самого мятежного, но и самого способного к любви, самого молодого, но и самого чуткого, самого блудного, но и самого способного к страданию сына земли. И вот уже наше бессилие одолено, мы уже не маленькие, не упрямые, мы уже не желаем единения с природой, а противопоставляем ее величию наше величие, ее прочности нашу изменчивость, ее немоте наш язык, ее мнимой вечности наше знание о смерти, ее равнодушию наше сердце, способное любить и страдать.