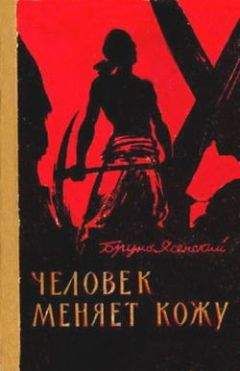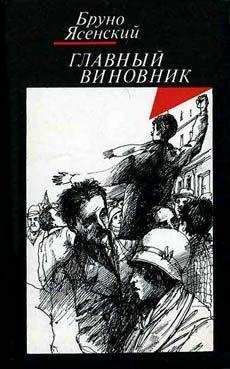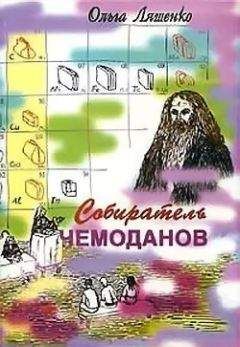– Я вызову милицию!
– Вызовете, когда починят провод. Ну, моё дело поставить вас в известность, а там как знаете.
– Я вам запрещаю! Вы за это ответите!
– Конечно, отвечу. Так и скажите своему начальству: разобрал под свою личную ответственность.
Нусреддинов вышел из канцелярии. На дворе быстро смеркалось.
– Айда, ребята. Открывайте пожарный сарай. Достать топоры и крючья. Сборный пункт над рекой, у амбара с цементом. Разберём амбар и брёвна пустим на шпалы.
Через десять минут бочки с цементом выкатили на набережную, и несколько человек с топорами вскарабкалось на амбар срывать крышу.
– Снимать осторожно, не портить материала! – кричал снизу Нусреддинов.
Крышу сорвали и поблизости аккуратно сложили в кучу. Принесли факелы. Заскрипели первые крючья, вцепившись крепким зубом в верхние балки. Комсомольцы кинулись к баграм. Первая балка затрещала и с грохотом ухнула вниз, приветствуемая весёлым взрывом голосов. Факелы в руках людей танцевали, как рыжие куклы. Под весёлые окрики команды комсомольцы тащили в разные стороны длинные шесты багров, и в отсвете огня, размазывающем привычные контуры, казалось, что стаскивают с амбара за непомерно длинные рукава его деревянный пиджак. Пиджак с треском лопнул по швам.
Нусреддинов, командовавший разборкой, обходя кругом скрипящий каркас амбара, натолкнулся впотьмах на белый призрак в форменной фуражке.
– А, это вы, товарищ начальник. Пришли посмотреть? Скоро кончаем.
Призрак совал ему под нос какую-то бумажку.
– Подпишите, – наступал он на ноги Нусреддинову, – я за вас сидеть в домзаке не собираюсь, – он угрожающе прозвенел в темноте зубами.
– А вы не беспокойтесь, с вас никто и спрашивать не станет.
Нусреддинов взял листок и прочёл при свете факела:
Сим удостоверяю, что амбар с цементом разобрал вопреки категорическому запрещению начальника пристани, под свою личную и исключительную ответственность, о чём настоящим свидетельствую своей подписью.
Начальник протягивал химический карандаш:
– Послюнявьте и подпишите.
– Пожалуйста, – засмеялся Нусреддинов, подписывая бумажку.
…Первая машина, груженная лесом, тронулась с пристани на участок, увозя заодно партию комсомольцев. Мастерские по обе стороны дороги провожали их звоном и грохотом. Над кузнечными горнами метались стаи горящих комаров. Подвешенный на домкрате железный конь дробил незримым звонким копытом чёрный асфальт ночи. Во многих местах ночь горела, как спирт, голубым пламенем автогенной сварки.
Грузовик нырнул во мрак и пошёл вдоль полотна узкоколейки. Серебряный рельс стремительной телеграфной лентой бежал впереди, обгоняя машину на длину луча фар. На груде грохочущих и переминающихся с боку на бок балок, тесно охватив друг друга руками, сидели комсомольцы. Каждый метр рельса, обгоняющего сейчас машину, проложен был их руками. Грузовик не мог нагнать рельсов, и в этих воображаемых гонках победителями были они. Они кричали, одержимые буйным весельем, и хохот, взбалтываемый тряской грузовика, звенел, как припев, – чтобы вдруг, без перехода, без сговора, обернуться раскатистой песней:
Ты слышишь эти крики,
Таджикистан?
Настал твой день великий,
Таджикистан!
………………………
Дверь новой жизни для Востока
Открыл твой ключ великий,
Таджикистан!
…Факелы двумя длинными вереницами убегали во мрак. Полотно казалось улицей в шпалерах газовых фонарей, с которых дневная перестрелка посшибала стеклянные колпаки, – несуразной одинокой улицей, бежавшей из разгромленного города и заблудившейся среди пустыни.
Нусреддинов шёл вдоль полотна, с трудом передвигая свинцовые ноги, и глазами, мутными от усталости, озирал участок. Третью ночь подряд он был на ногах. Удлинённые тени людей в мигающем отсвете факелов раздувались и лопались, как пузыри, ломались пополам, всполошенные, прыгали в темноту. Задевая Нусреддинова плечом, рысью пробежали два комсомольца, сгибаясь, как гуттаперчевые, под тяжестью рельса. Лопасти заступов сухо хрустели в песке, и песок, словно взметаемый ветром, вздымался на глазах гребнем устойчивой насыпи. Потом готовую насыпь копальщики ласково похлопывали лопатищами по крутым обочинам и, перекинув заступы, уходили дальше. По конвейеру человеческих окриков, качаясь, плыли кургузые шпалы. Где-то протяжно пела пила, и размеренно, как бубен, стучал топор.
Нусреддинов пошёл напрямик к палаткам. Смена работала хорошо. Завтра с головного участка должны были прибыть новые ребята. Теперь можно прилечь и поспать до утренней смены. Он тут же вспомнил, что в палатке лежит тело Анварова, и пошёл прочь по направлению к тлеющему костру. В темноте нога скользнула по кошме. Он нагнулся:
– Кто это?
– Это я, Керим, – он узнал голос Полозовой. – Немножко устала. Прилегла на воздухе вздремнуть. Ты, наверное, тоже изрядно измучился. Садись. Шароф спал ту ночь, он присмотрит.
Керим тяжело опустился на кошму.
– Да, и я устал. Надо передохнуть. С новыми ребятами будет много возни. Значит, ты завтра уезжаешь обратно на головной участок?
– Нужно, Керим. Если б ты знал, как не хочется ехать! А не ехать никак нельзя. Американец остался без переводчика. Синицын, наверное, будет ругаться, что задержалась.
– Жалко, что уезжаешь, Мариам…
– А я приеду. Условлюсь с моим американцем и хоть дня на два обязательно приеду. Очень мне хорошо тут было. Знаешь, этой недели никогда не забуду.
– Ты очень хороший товарищ, Мариам.
Она отыскала и погладила его руку.
– Это ты – исключительный товарищ, Керим. Я очень полюбила тебя. Мне кажется, что за эту неделю я узнала тебя по-настоящему. Почему ты дрожишь, Керим? Тебе холодно?
– Да, немножко…
– Подвинься, я тебя накрою моим пальто…
Она нагнулась к нему и волосами коснулась его лица. Он протянул руки и привлек её к себе.
По насыпи грохотали вагонетки, перекликались голоса, и топор, как дятел, размеренно клевал дерево…
– Керим, дорогой!
– Ты правда меня любишь, Мариам?
– Да, очень. Дай я тебя укутаю пальто. Ты весь дрожишь
– Нет, мне не холодно, Мариам. Я просто не могу взять себя в руки, Мариам, милая! Это такое неожиданное, огромное счастье. Как я теперь работать буду, Мариам! Ты увидишь. Всё, что я до сих пор делал, – это пустяки. Я чувствую, что могу сделать втрое, вдесятеро больше, Мариам, ведь мы будем теперь вместе, правда? И жить, и работать, и учиться? Нет, подожди, я не могу ещё себе представить…
Они лежали, плотно прижавшись друг к другу, прислушиваясь к шороху своего дыхания.
– Мариам, дорогая, ты завтра уедешь? Мне будет очень трудно.
– Мне тоже трудно, Керим. Но ведь сам знаешь, нельзя иначе.
– Мариам, когда мы закончим узкоколейку и я вернусь на головной участок, я тебя буду видеть каждый день, правда?
– Правда, Керим.
– Мы будем встречаться каждый вечер после работы, правда?
– Каждый вечер, Керим, иногда и в течение дня, в обеденный перерыв.
– И ты будешь меня любить?
– Ну да, милый. Знаешь что, у тебя ведь нет отдельного жилья, а у меня есть. Переезжай ко мне.
– Как только закончим узкоколейку?
– Как только закончим, прямо с грузовика, со свёртком. Я всё устрою. Достану другой столик. Сможешь по вечерам заниматься. Ведь в общежитии тебе всё время мешают.
– Мариам, милая, неужели всё это правда? И мы никогда не будем больше разлучаться? В Москву ведь тоже поедем вместе? Я получу путёвку. А потом, закончив учёбу, приедем обратно в Таджикистан, да? – в голосе Керима прозвучала тревога. – Видишь, Мариам, ведь я наибольшую пользу смогу принести именно здесь. А ты захочешь сюда вернуться?
– Конечно, вернёмся. Ты же знаешь, как я люблю Таджикистан. И потом я люблю тебя. Разве этого недостаточно, чтобы Таджикистан стал навсегда моей родиной?… Ты всё ещё дрожишь, Керим?
– Я очень счастлив, Мариам…
Вдали у потухающего костра, где отдыхала дневная смена, монотонно бренчал дутар, и низкий гортанный голос, покачиваясь, пел под сурдинку:
Избранный один из ста,
Сливки в зной – твои уста,
Сахар-мёд – мои уста,
Возьми, пожалуйста…
В вечернем заповеднике ночи, передразнивая гортанный клекот песни, подвывали шакалы.
– Знаешь, Керим, завтра утром, до того как мне уехать, обязательно скажем ребятам, что мы поженимся. Им было бы потом неприятно узнать, что мы от них что-то скрыли. Правда?… Почему ты ничего не говоришь?
Она коснулась губами его лица. Голова Керима тяжело соскользнула на её плечо. Керим спал. Она прислушалась к его дыханию, вспомнила три бессонных ночи, в течение которых этот коричневый мальчик был одновременно везде: на пристани, на грузовике, на участке, мобилизуя, толкая, выручая всех. Тёплая материнская нежность комком подступила к горлу и улыбкой растворилась на губах. Не высвобождая плеча, чтобы не разбудить спящего, она правой рукой бережно накинула на него пальто.