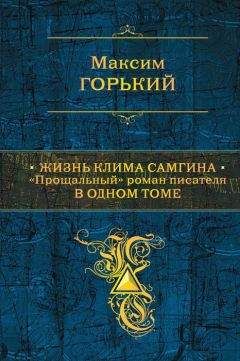Самгину действительность изредка напоминала о себе неприятно: в очередном списке повешенных он прочитал фамилию Судакова, а среди арестованных в городе анархистов – Вараксина, «жившего под фамилиями Лосева и Ефремова». Да, это было Неприятно читать, но, в сравнении с другими, это были мелкие факты, и память недолго удерживала их. Марина по поводу казней сказала:
– Хоть бы им, идиотам, намекнул кто-нибудь, что они воспитывают мстителей.
– Дума часто внушает им это, – сказал Самгин. Она резко откликнулась:
– Я под намеком подразумеваю не слова... И глаза ее вспыхнули сердито. Вот эти ее резкости и вспышки, всегда внезапные, не согласные с его представлением о Марине, особенно изумляли Самгина.
Около нее появился мистер Лионель Крэйтон, человек неопределенного возраста, но как будто не старше сорока лет, крепкий, стройный, краснощекий; густые, волнистые волосы на высоколобом черепе серого цвета – точно обесцвечены перекисью водорода, глаза тоже серые и смотрят на все так напряженно, как это свойственно людям слабого зрения, когда они не решаются надеть очки. Глаза – мягкие, улыбался он охотно, любезно, обнажая ровные, желтоватые зубы, – от этой зубастой улыбки его бритое, приятное лицо становилось еще приятней. Знакомя его с Климом, Марина сказала:
– Инженер, геолог, в Канаде был, духоборов наших видел.
– О, да! – подтвердил Крэйтон. – Люди очень – как это? – крепостные?..
– Крепкие? – подсказал Самгин.
– Да, спасибо! Но молодые – уже американцы. По-русски он говорил не торопясь, проглатывая одни слога, выпевая другие, – чувствовалось, что он честно старается говорить правильно. Почти все фразы он облекал в форму вопросов:
– Так много церквей, это всё ортодоксы? И все исключили Льва Толстого? Изумруды на Урале добывают только французы?
Но спрашивал он мало, а больше слушал Марину, глядя на нее как-то подчеркнуто почтительно. Шагал по улицам мерным, легким шагом солдата, сунув руки в карманы черного, мохнатого пальто, носил бобровую шапку с козырьком, и глаза его смотрели из-под козырька прямо, неподвижно, не мигая. Часто посещал церковные службы и, восхищаясь пением, говорил глубоким баритоном:
– Оу! Языческо прекрасно, – правда? Так же восхищал его мороз:
– Это делает меня таким, – говорил он, показывая крепко сжатый кулак.
Было в нем что-то устойчиво скучное, упрямое. Каждый раз, бывая у Марины, Самгин встречал его там, и это было не очень приятно, к тому же Самгин замечал, что англичанин выспрашивает его, точно доктор – больного. Прожив в городе недели три, Крэйтон исчез.
Отвечая Самгину на вопросы о Крэйтоне, Марина сказала – неохотно и недружелюбно:
– Что я знаю о нем? Первый раз вижу, а он – косноязычен. Отец его – квакер, приятель моего супруга, помогал духоборам устраиваться в Канаде. Лионель этот, – имя-то на цветок похоже, – тоже интересуется диссидентами, сектантами, книгу хочет писать. Я не очень люблю эдаких наблюдателей, соглядатаев. Да и неясно: что его больше интересует – сектантство или золото? Вот в Сибирь поехал. По письмам он интереснее, чем в натуре.
Поговорить с нею о Безбедове Самгину не удавалось, хотя каждый раз он пытался начать беседу о нем. Да и сам Безбедов стал невидим, исчезая куда-то с утра до поздней ночи. Как-то, гуляя, Самгин зашел к Марине в магазин и застал ее у стола, пред ворохом счетов, с толстой торговой книгой на коленях.
– Деньги – люблю, а считать – не люблю, даже противно, – сердито сказала она, – Мне бы американской миллионершей быть, они, вероятно, денег не считают. Захарий у меня тоже не мастер этого дела. Придется взять какого-нибудь приказчика, старичка.
– Почему – старика? – шутливо спросил Самгин.
– Спокойнее, – ответила она, шурша бумагами. – Не ограбит. Не убьет.
– А какого дела мастер Захарий?
– Захарий-то? Да – никакого. Обыкновенный мечтатель и бродяга по трудным местам, – по трудным не на земле, а – в книгах.
Небрежно сбросив счета на диван, она оперлась локтями на стол и, сжав лицо ладонями, улыбаясь, сказала:
– Обижен на тебя Захарий, жаловался, что ты – горд, не пожелал объяснить ему чего-то в Отрадном и с мужиками тоже гордо вел себя.
Самгин, пожав плечами, ответил:
– Я – тоже не мастер по части объяснений. Самому многое неясно. А с мужиками и вообще не умею говорить. Марина перебила его речь, спросив:
– А Валентин жаловался на меня?
Самгин даже вздрогнул, почувствовав нечто подозрительное в том, что она предупредила его.
Ее глаза улыбались знакомо, но острее, чем всегда, и острота улыбки заставила его вспомнить о ее гневе на попов. Он заговорил осторожно:
– Он любит жаловаться на себя. Он вообще словоохотлив.
– Болтун, – вставила Марина. – Но поругивает и меня, да?
– Нет. Впрочем, – назвал тебя хитрой.
– Только-то?
Она тихонько и неприятно засмеялась, глядя на Самгина так, что он понял: не верит ему. Тогда, совершенно неожиданно для себя, он сказал вполголоса и протирая платком очки:
– Вечером, после пожара, он говорил... странно! Он как будто старался внушить мне, что ты устроила меня рядом с ним намеренно, по признаку некоторого сродства наших характеров и как бы в целях взаимного воспитания нашего...
Выговорив это, Самгин смутился, почувствовал, что даже кровь бросилась в лицо ему. Никогда раньше эта мысль не являлась у него, и он был поражен тем, что она явилась. Он видел, что Марина тоже покраснела. Медленно сняв руки со стола, она откинулась на спинку дивана и, сдвинув брови, строго сказала:
– Ну, это ты сам выдумал!
– Он был нетрезв, – пробормотал Самгин, уронив очки на ковер, и, когда наклонился поднять их, услышал над своей головой:
– Ты хочешь напомнить: «Что у трезвого – на уме, у пьяного – на языке»? Нет, Валентин – фантазер, но это для него слишком тонко. Это – твоя догадка, Клим Иванович. И – по лицу вижу – твоя!
Скрестив руки на груди, занавесив глаза ресницами, она продолжала:
– Не знаю – благодарить ли тебя за такое высокое мнение о моей хитрости или – обругать, чтоб тебе стыдно стало? Но тебе, кажется, уже и стыдно.
Самгин чувствовал себя отвратительно.
«Веду я себя с нею глупо, как мальчишка», – думал он.
Марина молчала, покусывая губы и явно ожидая: что он скажет?
Он сказал:
– Видишь ли – в его речах было нечто похожее на то, что я рассказывал тебе про себя...
– Еще лучше! – вскричала Марина, разведя руками, и, захохотав, раскачиваясь, спросила сквозь смех: – Да – что ты говоришь, подумай! Я буду говорить с ним – таким – о тебе! Как же ты сам себя ставишь? Это все мизантропия твоя. Ну – удивил! А знаешь, это – плохо!
Несколько оправясь, Самгин заговорил:
– Я не мог не отметить некоторого, так сказать, пародийного совпадения...
– Оставь, – сказала Марина, махнув на него рукой. – Оставь – и забудь это. – Затем, покачивая головою, она продолжала тихо и задумчиво:
– До чего ты – странный человек! И чем так провинился пред собой, за что себя наказываешь?
Это было сказано очень хорошо, с таким теплым, искренним удивлением. Она говорила и еще что-то таким же тоном, и Самгин благодарно отметил:
«Так никто не говорил со мной». Мелькнуло в памяти пестрое лицо Дуняши, ее неуловимые глаза, – но нельзя же ставить Дуняшу рядом с этой женщиной! Он чувствовал себя обязанным сказать Марине какие-то особенные, тоже очень искренние слова, но не находил достойных. А она, снова положив локти на стол, опираясь подбородком о тыл красивых кистей рук, говорила уже деловито, хотя и мягко:
– Я спросила у тебя о Валентине вот почему: он добился у жены развода, у него – роман с одной девицей, и она уже беременна. От него ли, это – вопрос. Она – тонкая штучка, и вся эта история затеяна с расчетом на дурака. Она – дочь помещика, – был такой шумный человек, Радомыслов: охотник, картежник, гуляка; разорился, кончил самоубийством. Остались две дочери, эдакие, знаешь, «полудевы», по Марселю Прево, или того хуже: «девушки для радостей», – поют, играют, ну и все прочее.
Сделав паузу, скрывая нервную зевоту, она продолжала в том же легком тоне:
– У Валентина кое-что есть и – немало, но – он под опекой. По-вашему, юридически, это называется, – если не ошибаюсь, – недееспособен. Опека наложена по завещанию отца, за расточительность, опекун – крестный его отец Логинов, фабрикант стекла, человек – старый, больной, – фактически опека в моих руках. Года три тому назад, когда Валентину минуло двадцать два, он, тайно от меня, подал прошение на высочайшее имя об отмене опеки, ему – отказали в этом. Первый его брак не совсем законен, но жена оказалась умницей и честным человеком... впрочем, это – неважно.
Устало вздохнув, Марина оглянулась, понизила голос.
– Теперь Валентин затеял новую канитель, – им руководят девицы Радомысловы и веселые люди их кружка. Цель у них – ясная: обобрать болвана, это я уже сказала. Вот какая история. Он рассказывал тебе?